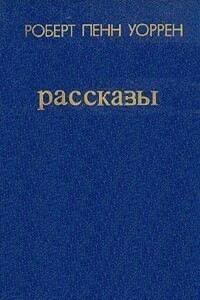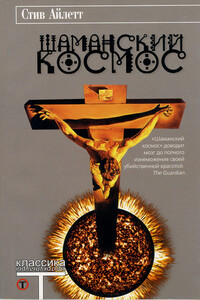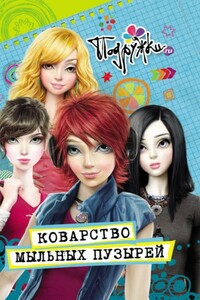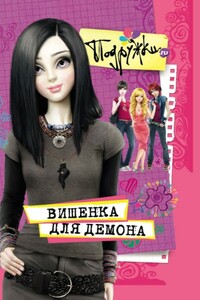Анатолий Знаменский.
Хлебный год.
Наверное, все это у нас в крови… Не спит память, не может уснуть. Снова и снова, в который уже раз, глухой колокольный звон вдруг раскалывает застойную глубь степной ночи, и что-то громово разваливается на куски – то ли оглохшая ночная тишина, то ли сам стопудовый колокол, и тяжкие, позеленевшие от времени медные глыбы с древней насечкой падают с ночного неба в темный, заросший спутанными травами русалочный омут. И медленно, со стоном уходят сквозь толщу воды в самую глубину, к донным родникам…
И вдруг все замирает – и колокольный набат, и ржание взмыленных в скачке лошадей с бешеным перезвяком сбруи, и колесный грохот летящей в непроглядную тьму военной тачанки, и одиночная, растянутая по вихревому воздуху пулеметная очередь, словно угасающий где-то на фланге атаки крик эскадронного:
– В об-хо-о-о-од!..
И – тишина.
За окном, в листве сада, чуть сквозит предутренняя свежесть. Близится рассвет… Мокрое, невнятное мерцание росы на ветках и листьях – словно текучий проблеск отточенной стали в ночной тьме. Так поблескивают, должно быть, жальца граненых штыков где-нибудь в засаде, в луче степного ущербного полумесяца…
Но что все это значит? Нынешний сон или давняя полузабытая явь? Моя ли кровная, подсознательная память или живая память отца, мчавшегося когда-то на красной штабной тачанке в этой вихревой степи, оглушенной взрывами, ревом и свистом неудержимой конной атаки, память тех лет, когда меня и на свете еще не было?..
Тишина.
Большое, влажное солнце встает над незнакомым хутором. От речки, из гущи вербовых левад зыбко и неуловимо поднимается туман, стелется над узкой проселочной дорогой. А на той дороге, на самом спуске к хутору, я вижу отца…
Сейчас я вижу его отчетливо, как бы лицом к лицу – совсем еще молодого, крепкого, с веселой, привычной усмешкой на усатом лице. Знаю, что он только вернулся с гражданской в свою родную станицу. Но почему он здесь? Почему идет к чужому хутору в каком-то зипуне с веревочным рваным недоуздком через плечо? Что он здесь потерял, кого ищет?..
Спросить? Но как докричаться в этакую даль времен?
Степь лежит вокруг спокойная и умиротворенная. Ранняя весна. Кончился прошлый, двадцать первый, голодный год… Отец останавливается на минуту закурить. Смотрит вокруг с какой-то потаенной, молчаливой радостью, как человек, только что осознавший, что он уцелел на войне, что вокруг – мир… Смотрит и прислушивается – к ветру, пению птиц, крику петуха в ближнем дворе.
Может, он слышит сейчас меня, мой молчаливый вопрос?
Он кивает чему-то и усмехается.
В самом деле, что он здесь потерял? Что ищет? Может, свою судьбу? Обо всем этом он расскажет мне по том, много лет спустя… Расскажет не сразу, а по частям, к случаю, и с той веселой, жизнелюбивой беспечностью, как умел только он…
Хуторок Колобродов, что лежал на его пути, был и не мал и не велик, так – на сотню дворов, и располагался, надо сказать, в самых серединных, волчьих бурьянах Верхнего Придонья, как раз в той теклине, где кучерявый продувной лесок Банник смыкается с Дурным Буераком. А если географически, то прямо посреди земного шара, потому что сколько, бывало, ни беги от него в верхнюю сторону, за Фоломкины прясла и Кузьмичово гумно, все равно забурьяненных бугров под Банником не одолеешь, рано или поздно вернешься обратно с другой стороны, через Паранькину леваду либо Финогенов крутояр.
На этом географическом обстоятельстве отец всякий раз особо настаивал, потому что и сам не смог обойти все это средоточие жизни, когда изучал колобродовские окрестности и мотался по забурьяненным ярам с тем самым надорванным недоуздком-обротью через плечо в поисках пропавшей пегой кобылы…
Искал он эту проклятую кобылу с должным прилежанием никак не меньше года, каждого встречного спрашивал:
– Не видал, добрый человек, пегую животину с веревочным путом на шее? Заблудила, окаянная… Правый бок белый, левый в пестроту, сбочь репицы калмыцкое тавро?
Приметы были уж куда точнее. Однако никто этой кобылы никогда не встречал, да и правду сказать, лошадка была вовсе ни при чем. Вернее, ее и на свете не существовало, а служба такая бродячая отцу выпала по воле Особого отдела ДонЧК.
Сам-то он на эту опасную службу не напрашивался, а произошло все из-за длительного военного положения и старой действительной службы при царе.
Про войну отец вообще вспоминать не любил, потому что был девятьсот десятого года призыва и шинель ему здорово шею натерла. Надоело шашку на боку носить, карабин нянчить. Только действительную кончил – германская. В семнадцатом, когда уже вшей накормили досыта и окопы бросили, пошли по домам, а тут – Каледин, и началось…
– Про германскую говорить нечего, а гражданская – это уж и не война вовсе, а сплошное смертоубийство, – говорил он иной раз в шутку. – Хуже и придумать нельзя. Позиции ж никакой! Не знаешь, с какой стороны начнут палить: из-за Паранькиного плетня или Кузьмичова прикладка. Белые, красные – это ладно, а вот ежели из Банника зеленые жару дадут, тогда как? Главная же беда, что они, дьяволы, и сами не знают, с каким они подмесом: бело-зеленые или, может, наоборот – красноватые? В девятнадцатом нас вешенцы шарахнули из станицы, ревком на Урюпинскую отступал. Гляжу через Хопер с луговой стороны, а станица по горному скату как на ладони, и в нашем дворе стоит на привязи чужой белый конь. Степка Сукочев, политком, бывший однокашник, начал прицеливаться. Это, говорит, конь Амельяна Кочеткова с хутора Шакина, он при царе молотилку имел… Я говорю: погоди, не стреляй, а то мать выйдет к курям или корове, в ногу попадешь… Какая же это война? Не война, а наказание! Так вот, прибыл отец из-под Перекопа к мирной жизни при буденовке и новых сапогах с высокими козырьками, чистый, как стеклышко. На лбу звезда, сапоги скрипят, а время хоть и голодное, но мирное, с просветом. А в станичном правлении Яшка Филин оказался. Про него отец так говорил: