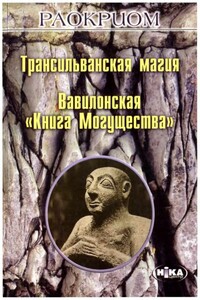Двенадцатилетний мальчуган доил козу. Она была привязана к столбу навеса перед джаргвали. Мальчуган примостился на корточках у раскоряченных ног козы и, придерживая голыми коленями подойник, яростно тискал и без того натруженное вымя.
— Не упрямься, Джека! Давай, говорю, давай, а не то попадет! — сердился мальчик.
Коза, выгнув спину и подобрав живот, как ни в чем не бывало обнюхивала козленка, который ласково жался к ней.
Занималось утро — одно из тех, какие бывают только на Черноморском побережье в осеннюю пору. Предрассветный туман окутывал джаргвали. Воздух все еще был напоен влажным дыханием ночи. Влага оседала на землю и растекалась слизкой грязью.
Ноги мальчика скользили, усилия его пропадали зря, и это тоже сердило его.
Распахнулась скрипучая дверь, и у порога джаргвали показался пузатый встрепанный человек в накинутой на одно плечо бурке. Он осторожно перенес через высокий порог обмотанные тряпьем ноги, к которым ремешками были подвязаны рваные каламани. Быстро притворив за собою дверь, он воровато огляделся и заплетающейся походкой устремился во двор.
Он даже не взглянул на мальчугана, доившего козу, но мимоходом кинул ему ласково и поощрительно:
— Так, Бардгуния, так ее, разбойницу: пускай отдаст все до последней капли… Экая воровка! Во всем нашем Оркети такой не сыскать.
Остановившись в нескольких шагах, он сказал как будто про себя, но так, чтобы слова его донеслись до мальчика:
— Она ведь и маму твою в могилу свела…
Пузатый человек стоял посреди двора и вглядывался в предутренний сумрак: какая-то нынче будет погода?
Не доверяя глазам, он поднял нос, словно охотничья собака, задвигал ноздрями и, причмокивая, потянул воздух, — казалось, он хотел испробовать погоду сразу и на вкус и на запах.
— А! Видать, погожий будет нынче денек? Не иначе! — тихо спросил он, сам же себе ответил и явно чему-то обрадовался.
Он взглянул на мальчика, который все еще бился с козою, и поделился с ним своей радостью:
— Скажи-ка мне, чириме, слыхал ты такое: утренний туман — это бурка; солнце встает, закутается в бурку… а потом скинет ее и давай расстилать по земле золотую парчу… Как насчет этого в книжках у вас пишут?
Бардгуния до того был поглощен своим делом, что не обратил на него никакого внимания. Тогда лохматый человек, как-то странно щурясь, подошел к нему семенящей походкой, ко стал так, чтобы мальчику не виден был его бок, горбом торчавший под буркой.
— Бабайя правду говорит, ты уж поверь, чириме, — сказал он мальчику и похлопал его по плечу. — Из всех ты один у меня путный удался… Остальные — мошенники, только и знают что рты разевать — пихай да пихай. Этак вот…
Разинув необъятную пасть, он несколько раз ткнул себя кулаком в рот, как бы проталкивая что-то.
— Четверо! Четверо этаких… Ты, Бардгуния, не в счет… И я тоже… А не то…
Последние слова он почти выкрикнул, видимо придавая им особое значение; казалось, крик этот вырвался из самой глубины его сердца — в нем прозвучали одновременно и явный испуг, и насмешка, и недоумение.
— Не то было бы их не четыре, а шесть. — Он понизил голос и продолжал раздумчиво: — Шесть ртов… Впрочем, что ни говори, всякий рот приходится чем-нибудь набивать да напихивать. Так-то, милый…
Голову его прикрывала войлочная, цвета прелого папоротника шляпа, напоминавшая скорее птичье гнездо. Бурка, накинутая на плечо, была того же цвета и совсем не по росту хозяину; полы ее висели лохмотьями. Шляпу, очевидно, он сам смастерил из обрезков той же бурки, кое-как скрепив их грубыми стежками.
Желтое, цвета ромашки, лицо заросло волосами: выцветшая борода и усы торчали клочьями. Из-под нависших лохматых бровей подозрительно и плутовато глядели маленькие серые глазки.
— Да, если мы с тобой, Бардгуния, вовсю разинем рты, их никто не набьет. Верно ведь? Сам видишь, чириме, сколько людей трудодни подсчитывают? Лишнего не урвешь!
Он, видимо, неспроста разговаривал с сыном так по-приятельски, явно стараясь задобрить его; однако мальчик нисколько не растрогался и пропустил мимо ушей его слова.
Тогда лохматый человек с досады и огорчения отошел в сторону и остановился у второго столба, поддерживавшего навес. Он еще раз хмуро взглянул на Бардгунию; убедившись, что тот по-прежнему возится с козой, украдкой вытянул из-под бурки и положил на землю довольно объемистый хурджин, одна половина которого была чем-то набита и затянута ремешком. Скинув бурку, он пристроил ее стоймя, так, что она заслонила хурджин.
Теперь он оказался в поношенной, утратившей всякий вид чохе, серой, как дорожная пыль. На том месте, где чоху обычно украшают газыри, были нашиты карманы из черной ткани. Выпяченный вперед живот почему-то особенно вздувался слева, что еще больше уродовало и без того неказистую фигуру. Узкий белый ремень, завязанный спереди узлом, стягивал талию. На ремне, на левом боку, висел довольно длинный нож в ножнах, на правом — кисет, из которого торчала трубка.
Сняв бурку, он широко вскинул руки, деловито подвернул рукава повыше локтей и весь подобрался, как бы готовясь кинуться на врага; встал на носки, втянул живот, подался всем телом вперед и нацелился на козленка, нежно прильнувшего к материнской шее.