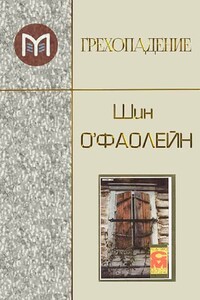РАССКАЗ
Весь месяц монахини готовили моего сына к первому причастию. Через несколько дней ребятишки парами пойдут прямо из школы в нашу приходскую церковь; за поворотом бокового нефа он увидит эти странные сооружения, и там в полумраке и пыли исповедальни перед ним из-за решетки предстанет лицо старого священника. Сын будет, наверное, немного испуган, но в то же время и обрадован, ибо, в сущности, для него это лишь своеобразная игра, в которую играют между собой монахини и священник.
Да и как может он отнестись к происходящему серьезно? Монахини говорили ему, что младенец Иисус печалится, когда видит греховные деяния. Но мой сын никогда не грешил, поэтому какое ему дело до чьих-то грехов? Если бы они сказали, что причина печали сына божьего — Робин из Коровьего Уха или Питер Пэн, он бы поверил, ибо для него они — живые существа, обитающие в полях, что окружают наш дом. Откровенно говоря, он любит приврать, он просто ужасный лжец, и, когда мы играем в румми, он жульничает при каждом удобном случае, а когда он медлит с ходом, обдумывая свои каверзы, и я поторапливаю его, он выходит из себя, его глаза наполняются слезами, он швыряет карты и обзывает меня.
И тогда во мне просыпается такая любовь к нему, что тронутый его откровенностью и невинностью, я обнимаю его; а когда он засыпает, я, вспомнив эти бурные слезы, захожу к нему в комнату и осторожно прячу под одеяло его пухлую влажную ручонку, в которой он сжимает одно из своих сокровищ, например пустую катушку. И чего ради ему беспокоиться, что бог разгневается на него лишь потому, что он привирает в игре или же сердится на своего папу?
Это я беспокоюсь, следя за приготовлениями к его первому причастию, потому что знаю: настанет день, когда он и в самом деле согрешит, и мне известен тот ужас, который охватит его тогда, но я бессилен предотвратить то, что его ждет.
Сам я никогда не смогу забыть день, когда впервые понял, что согрешил. Как только мне стукнуло семь лет, я стал исправно, год за годом ходить к причастию, и в первый раз я собирался так же, как сейчас собирается мой сын, и раз за разом я говорил одни и те же слова — те же, что скажет и он. «Отец мой, я солгал… Отец мой, я забыл утреннюю молитву… Отец мой, я не слушался родителей»… Вот и все, пожалуй… И это было чистой правдой: все эти прегрешения лежали на моей совести: но в том, что касается моего сына, они будут не более правдивы, чем басня, и не более опасны, чем детская потасовка, ибо что может быть греховного в детском утаивании правды или во вспышках гнева.
Мне вспоминается, как однажды сырым и ветреным утром, вскоре после рождества, я, как обычно, шел причаститься в старую, темную, покосившуюся церковь святого Августина, стоявшую на боковой улице, в стороне от оживленного движения, в том месте, которое своей промозглой сыростью и зловонием всегда напоминали мне могилу. Должно быть, ее давно уже снесли, а если этого не произошло, то она скорей всего обвалилась сама. Она была из тех церквей, где в боковом притворе или в темноте задних рядов всегда ютится парочка бродяг, прячась от непогоды, и где всегда есть убогие нищенки, которые, закутавшись в платки, тихо молятся, и голоса их напоминают шелест ветра по шиферной крыше. Краски на стенных росписях сохраняли свою чистоту и свежесть, но скамейки и перила были истерты поколениями молящихся. Священники в этой церкви носили обычные черные одеяния августинцев — рясы с капюшоном, подпоясанные кожаным ремешком. Тому, кто приходил сюда в первый раз, церковь эта могла бы показаться достаточно мрачным местом. Но я чувствовал себя здесь спокойно, ибо еще совсем крохотного мать брала меня сюда, чтобы представить пред очи святой Моники, матери Августина, и мне нравились и яркие огни свечей перед ее изображением, и темные закоулки на галереях, и расписанные медальоны на потолке, и душные кабинки исповедален с их тяжелыми пурпурными занавесями, из-под которых высовывались пятки кающихся, ерзающие, когда сами грешники припадали к решетке.
Очутившись в помещении и радуясь, что удалось наконец скрыться от режущего январского холода, я преклонил колени пред святой Моникой, окруженной сверкающим ореолом свечей. Я стоял на коленях, читая в своем дешевом молитвеннике список грехов, отмечая те, которые были мне знакомы, и проскакивая мимо тех, о которых я ничего не знал, как вдруг я внезапно остановился, натолкнувшись на грех, который обычно не привлекал моего внимания, как не имеющий ко мне никакого отношения.
Я пишу эти слова, и меня снова охватывает ужас, словно при виде змеи: я понял, что мне знаком этот грех. И знаком хорошо. Ни один преступник, который чувствует на своем плече железную руку полицейского, не испытывал большего ужаса, нежели я, вперившийся в эти чудовищные слова…
Я присоединился к длинной молчаливой очереди кающихся, которые сидели вдоль стены. Наконец я вошел в темную исповедальню. И шепотом сказал о своем прегрешении.
Пожилой священник, принимающий исповеди, был человеком весьма преклонных лет. Он был настолько стар и дряхл, что ему редко доверяли нечто большее, чем читать мессу и выслушивать исповеди. Если же ему доводилось читать проповеди, он мог бормотать часами; люди вставали и выходили; служка в отчаянии выглядывал из дверей ризницы и наконец посылал кого-нибудь из мальчиков певчих ударить в большой гонг, висевший в притворе, чтобы заставить старика остановиться. Я сам видел, как мальчик по три раза подходил к гонгу, прежде чем старый священник понимал, что пора спускаться с кафедры.