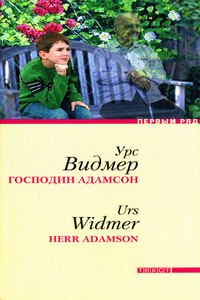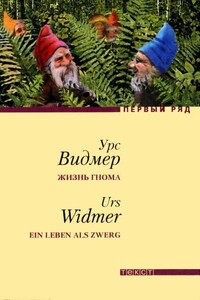Урс Видмер
ГОСПОДИН АДАМСОН
Вчера мне исполнилось девяносто четыре года. Мы это отпраздновали как обычный день рождения. Сюзанна испекла шоколадный торт, упрощенный крестьянский вариант, его рецепт, переживший две войны и экономический кризис, когда-то получила моя мать от своей бабушки. Ноэми, наша дочь, которая обожала все дни рождения, кроме своего собственного, попыталась, как всегда, воткнуть в торт побольше свечек. На этот раз ей удалось разместить примерно на ста квадратных сантиметрах торта около пятидесяти штук (она купила самые маленькие). Шоколада под ними почти не стало видно, а может, они и впрямь его вытеснили. Оставшиеся сорок четыре свечки стояли вокруг торта. Ноэми с удовлетворением посмотрела на результаты своего труда и сказала:
— Не надо дотягивать до ста лет, папа. С сотней свечек я не справлюсь.
Зажечь их было совсем не просто. То никак не хотела загораться одна в центре, когда все уже горели, то, пока Ноэми возилась с последней, гасли первые. Во всяком случае, Ноэми пару раз обожгла себе пальцы. Но потом наконец дружно загорелись все. Это было похоже на северный символ праздника летнего солнцестояния или на предмет культа индейцев майя. Мы восклицали «Ах!» и «Ой!», а потом задули свечи. Я, кажется, ни одной, Сюзанна — две или три, Ноэми штук двадцать, а Анни, моя внучка, тоже давно уже взрослая, — все остальные. Но ей помогали ее два сына, они старательно дули поверх горящих свечек. Когда огонь погасили, дым наполнил всю комнату. Я закашлялся, Сюзанна терла слезящиеся глаза, Ноэми распахнула все окна, Анни рассмеялась, а оба мальчишки завизжали от восторга. Мы все со счастливыми лицами смотрели друг на друга. Каждый получил кусок торта с десятком свечек, стеарин растекся по шоколаду. Все стали жевать. Потом я раскрыл подарки: миниатюрная лодка, челн, на корме которого стоял черный лодочник с веслом в руках (от Сюзанны). Пряничное сердце с надписью «Счастливого путешествия» (от Ноэми). Буханка хлеба с восхитительным запахом и бутылка вина (Анни). Оба мальчика — они близнецы, их зовут как-то по-современному, но мы называем их Бембо и Бимбо — сделали для меня рисунок, на котором мужчина (он напоминал меня, у него были усы и торчавшие вокруг лысины волосы) шел к горизонту, освещенному красным закатным солнцем. Я обнял трех женщин, по старшинству, потом — мальчиков. Высвобождаясь из моих объятий, они, как обычно, закричали:
— Дедушка, поиграешь с нами?
И я, как обычно, пошел играть с ними. Мы почти всегда играем в грабителя и жандармов — и в этот раз тоже, — потому что Бембо и Бимбо — талантливые жандармы с громовыми голосами, а я вполне гожусь на роль вора, ведь еще и сегодня я пробегаю стометровку, как когда-то Карл Льюис,[1] за 10,00. Правда, минут, а не секунд.
Когда я познакомился с господином Адамсоном, мне было восемь лет. Это случилось в саду виллы господина Кремера. Она находилась напротив нашего дома и вообще-то была вовсе не виллой (хотя все ее так называли), а скромным двухэтажным домом, правда, с очень большим садом. Странность заключалась в том, что господин Кремер никогда не появлялся в своем доме. Никогда. Никто его ни разу не видел, да и кого-нибудь другого тоже. Ни женщин, ни детей, ни слуг, ни садовника. Сад выглядел соответственно. Цветущий первобытный ландшафт, которым некому было любоваться, потому что сад и дом окружала высокая живая изгородь из самшита. Большие ворота, массивная железная плита, закрывали вход. Звонок, так и не зазвонивший, когда однажды я все-таки отважился на него нажать, готовый тут же укрыться в своем саду. Разумеется, сад господина Кремера выглядел гораздо таинственнее. То была запретная область, меня могло ожидать страшное наказание, если бы господин Кремер однажды появился и застал меня в своих секретных владениях. Меня и моего друга Мика, который, как и я, знал все закоулки этого заколдованного, таинственного места, где мы передвигались с осторожностью рыси и недоверчивостью газели, переполненные страхом и радостью, в любое время готовые к катастрофе посреди всей этой красоты.
В тот день — тоже день моего рождения, мне тогда исполнилось восемь, и солнце светило так же горячо, как вчера, — я вошел в сад своим обычным путем, через узкий лаз между самшитовой изгородью и высокой каменной стеной, отделявшей имение от владений Белой Дамы. Белая Дама — это еще одна история, скажу только, что она всегда (то есть в прямом смысле слова всегда) носила только белое. Белые туфли, белые перчатки, белую шляпу, а еще у нее во всем доме и в усаженном рододендронами саду была устроена сигнализация — натянутые проволоки, датчики, сирены, которые она приводила в действие три-четыре раза за день. А потом визгливым голосом сообщала примчавшейся полиции, что видела тень, целую толпу теней, и все они хотели ее убить. Если немного повезет, то в этой истории про господина Адамсона она больше не появится.
Трава в саду выросла по пояс, и везде было полно цветов. В тот день цвели — тогда я, конечно, не знал их названий, но сегодня знаю — красные и белые розы (около ворот), маки, олеандр, гибискусы, маргаритки на высоких стеблях (тысячи), гортензии (кладбищенские цветы, которые здесь выглядели весело и экзотично), вьюнки, луговой шалфей, лаванда, флоксы, львиный зев, зверобой, герань (ужасные цветы, когда они стоят на окнах бернских шале; но здесь и они горделиво рдели), фуксии, терновник, азалии, глицинии, тимьян, розмарин и жимолость (она пышно разрослась в дальнем углу сада, там, где за изгородью стояла скамейка, на которой иногда отдыхали прохожие). Щебетали птицы — воробьи, дрозды, синицы, зяблики, малиновки. В далеком лесу кричала кукушка. Бегали ящерицы. Порхали бабочки. Я стоял в восхищении. Обычно я себе этого не позволял, потому что на самом деле я был индейцем, а индейцы не знают боли, а значит, и восторга тоже.