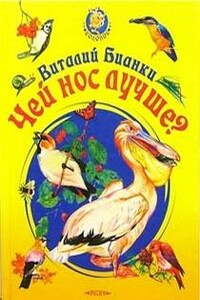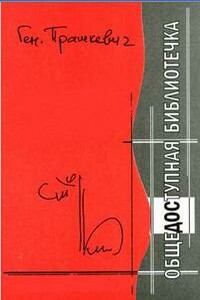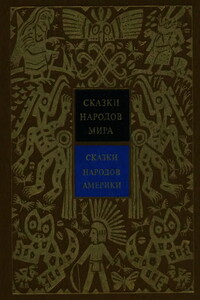Я выучил голландский, когда мне шёл девятый год. В то время у меня был папа — классный тип вроде меня, — который хотел, чтобы его дети преуспели в жизни. Сам он не очень хорошо учился в школе, что, однако, не мешало ему каждое лето покупать нам с моей сестрой Кристиной «летние дневники». Кристина их просто обожала. За вечер понедельника она умудрялась заполнить свой дневник аж до четверга. А я свой так ни разу и не смог закончить.
В том году папа объявил нам:
— Мы едем в кемпинг за границу.
И повернулся к маме:
— Я подумал, что детям будет полезно, если мы поедем в Германию. Они целыми днями будут слышать немецкую речь. Как говорится, «погрузятся в языковую среду».
Я же мечтал о погружении в море. Я спросил:
— А зачем нам «погружаться в языковую среду»?
Папа прямо вскинулся:
— Черт возьми, Жан-Шарль! К концу месяца ты заговоришь по-немецки! Чтобы чего-нибудь добиться в жизни, обязательно нужно владеть иностранным языком.
Я спросил:
— А ты знаешь немецкий?
Папа закашлялся и ответил: «Немного». Это была наглая ложь.
И вот, в августе мы, засунув между спасательными кругами и плавками свои «летние дневники», отправились в Германию изучать немецкий.
Проблемы начались уже на границе. Немецкий таможенник что-то нам твердил, рисуя в воздухе маленькие прямоугольники. Мы не понимали ни слова. Папа открыл багажник, чемоданы, свой портфель и уже собирался вывернуть карманы, но тут я ему сказал:
— Кажется, он хочет увидеть наши паспорта.
Так оно и было. Папа для важности надулся и принялся объяснять:
— Немецкий — очень трудный язык. Очень красивый, но очень трудный.
Ситуация усложнилась, когда мы добрались до кемпинга. Сторож оказался таким же разговорчивым, как и таможенник, а за день пути на автомобиле мы не очень продвинулись в нашем немецком. В итоге папа вытирал пот со лба, а мама повторяла:
— Ну чего он от нас хочет?
Сторож все говорил и говорил, показывая в воздухе треугольнички. Я сказал папе:
— Он хочет, чтобы мы шли ставить палатку.
Так оно и было. Сторож кивнул мне в знак благодарности, а папа произнес:
— У тебя явные способности к немецкому, Жан-Шарль!
За ужином папа объяснил мне, как я должен погружаться в языковую среду:
— Знакомишься с мальчиком твоего возраста. Вы вместе играете, он говорит по-немецки, а ты повторяешь. И все получается само собой.
Я буркнул:
— Да не хочу я играть с немцем!
Мама возмутилась:
— Немецкие дети ничем не хуже французских!
— Нет, они глупые, — сказал я.
Папа снова сделал необычайно серьёзный вид:
— Жан-Шарль, ты меня расстраиваешь. Дети все одинаковые, будь они чёрные или белые, испанцы или немцы…
Я тихо повторил:
— Они глупые.
Но очень тихо, чтобы не вызвать бурю. Как раз в это время мимо палатки прошли женщина и мальчик с одинаковыми светлыми волосами. Они несли в тазиках грязную посуду. Женщина взглянула на нас, улыбнулась и что-то сказала.
— Добрый вечер! — отозвались хором папа с мамой.
Мальчик тоже посмотрел в нашу сторону. Это был мой ровесник, возможно, немец, и их палатка стояла в двух шагах от нашей.
— Обрати внимание, — сказал папа, — он помогает своей маме мыть посуду.
— Предложи ему поиграть в мяч, — добавила мама.
На меня уставились родители, на меня уставилась сестра, на меня уставились соседи по кемпингу и даже собака сторожа. Вся земля ждала момента, когда я пойду играть в мяч с маленьким немцем. Я пожал плечами, поддал мяч ногой и, недовольно бурча, направился к соседней палатке.
По тому, с каким вызывающим видом стоял мальчишка, я понял, что он меня ждет. Я ударил по мячу. Он его с лёгкостью остановил. Совершенно точно, он идиот, но неуклюжим его не назовёшь. Матч начался.
Через десять минут я забыл о «погружении в языковую среду» и получал удовольствие от игры. Светловолосый мальчик вдруг задержал мяч ногой, ударил себя в грудь и крикнул:
— Никлаус!
Или что-то типа того. Я понял, что это он знакомится. Я тоже ударил себя в грудь и в шутку крикнул:
— Я — Тарзан!
Мой новый товарищ был серьёзным ребёнком. Он повторил:
— Ятазан.
Он явно собирался погрузиться в языковую среду. Он второй раз повторил: «Ятазан». Мне не так уж и нравилось мое имя, и я решил, что «Ятазан» вполне сойдёт на август вместо «Жан-Шарля».
Мы сели на траву. Мне в голову пришла мысль, что трудно дружить с кем-то, кто ни слова не понимает на том языке, на котором говоришь ты. Мой друг Никлаус сорвал цветок и сказал что-то типа «флур» или «флаур» или даже «флавер». Из вежливости я повторил. Он рассмеялся. Наверняка я не так произнёс. Он сделал мне знак назвать цветок на моем языке.
Что произошло в этот момент в моей голове? Мне вдруг показалось глупым назвать цветок «цветком», хоть я и знал, что он именно так и называется. И я сказал:
— Шпрут!
Никлаус повторил:
— Шпрут.
Он наверняка хорошо учился в школе. Я покачал головой, показывая, что он произносит неверно. И исправил;
— Шпру-ут!
Никлаус повторил. Внезапно охваченный каким-то помешательством, я показал дерево:
— Трабён!
— Трабён, — сказал Никлаус.
Затем, чтобы лучше усвоить новые слова, он повторил:
— Шпруут, трабён.
Я одобрительно похлопал в ладоши. И указал в сторону палатки: