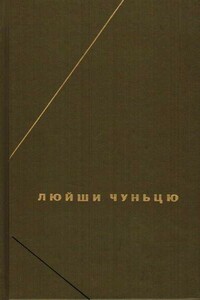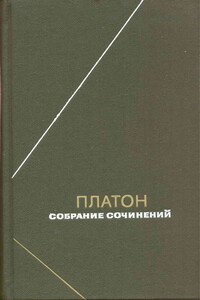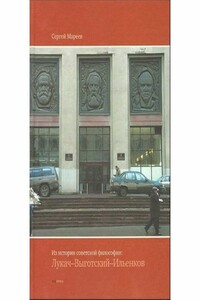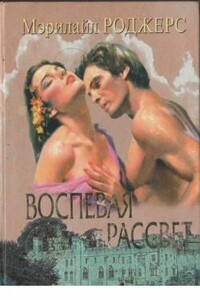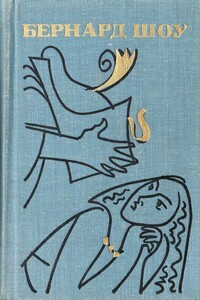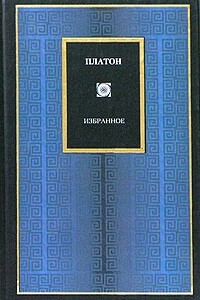Евдик, Сократ, Гиппий
Евдик. Ты-то почему молчишь, мой Сократ, после столь внушительной речи Гиппия, не присоединяясь к нашим похвалам и ничего не опровергая, если что-нибудь у него кажется тебе плохо сказанным? Да ведь и остались здесь все свои люди, посвящающие досуг усердным занятиям философией.
Сократ. В самом деле, Евдик, я с радостью расспросил бы Гиппия о многом из того, что он сейчас поведал нам о Гомере. Ведь и от твоего отца Апеманта я слыхивал, будто Гомерова «Илиада» — поэма более прекрасная, чем его «Одиссея», — настолько более прекрасная, насколько Ахилл доблестнее Одиссея: по словам Апеманта, одна из этих поэм сочинена в честь Одиссея, другая же — в честь Ахилла[1]. И если только Гиппий к тому расположен, именно это я с удовольствием выспросил бы у него — кто из этих двух мужей кажется ему более доблестным, cколь скоро он явил нам множество разнообразных соображений не только о Гомере, но и относительно ряда других поэтов[2].
Евдик. Ну уж ясно, что Гиппий не откажет тебе в ответе, если ты у него о чем-либо спросишь. Послушай, Гиппий, ты ведь ответишь, если Сократ задаст тебе свой вопрос? Не правда ли?
Гиппий. Было бы очень странно, Евдик, с моей стороны, если бы, прибывая всякий раз с родины, из Элиды, в Олимпию на всенародное празднество эллинов, я предоставлял себя в храме в распоряжение всякого, желающего послушать заготовленные мною образцы доказательств, и отвечал любому на его вопросы[3], а тут вдруг попытался бы ускользнуть от вопросов Сократа!
Сократ. Блажен ты, Гиппий, если каждую Олимпиаду прибываешь в святилище столь уверенным в расположении твоей души к мудрости! Я был бы удивлен, если бы кто-нибудь из атлетов входил туда столь же бесстрашно и с такой же уверенностью в готовности своего тела к борьбе, в какой ты, по твоим словам, пребываешь относительно своего разума.
Гиппий. Моя уверенность, Сократ, вполне обоснованна: с тех пор как я начал участвовать в олимпийских состязаниях, я никогда ни в чем не встречал никого мне равного.
Сократ. Выходит, Гиппий, что прекрасен этот дар мудрости — твоя слава — и для града элейцев и для твоих родителей! Однако что скажешь ты нам относительно Ахилла и Одиссея: который из них достойнее и в чем именно? Пока нас здесь было много и ты держал свою речь, я упустил сказанное тобою; я воздерживался от вопросов — и из-за присутствия огромной толпы, и чтобы не перебивать твою речь своими вопросами. Теперь же, поскольку нас мало, а наш Евдик побуждает меня к вопросам, ответь и разъясни нам получше, что говорил ты об этих двух мужах? Какое различение ты здесь проводишь?
Гиппий. Но, Сократ, я хочу еще яснее, чем раньше, изложить тебе свой взгляд и на них и на других мужей: я утверждаю, что Гомер изобразил самым доблестным мужем из стоявших под Троей Ахилла, самым мудрым — Нестора[4], а самым хитроумным — Одиссея.
Сократ. Поразительно, Гиппий! Но не будешь ли ты так добр не смеяться надо мной, коль я с трудом усвою сказанное и буду часто тебя переспрашивать? Прошу тебя, попытайся в своих ответах быть кротким и невзыскательным.
Гиппий. Позором было бы для меня, Сократ, если бы, обучая всему этому других и считая возможным брать за это деньги[5], я не проявил бы снисходительности к твоим вопросам и кротости в ответах.
Сократ. Ты прекрасно сказал. Когда ты утверждал, что Ахилл изображен самым доблестным, а Нестор — мудрейшим, мне казалось, я понимаю твои слова; в но вот когда ты сказал, что поэт изобразил Одиссея как самого хитроумного, я, по правде сказать, совсем не понял, что ты имеешь в виду. Скажи же, чтобы я лучше все это постиг: разве у Гомера Ахилл не представлен хитроумным?
Гиппий. Отнюдь, Сократ. Напротив, он изображен честнейшим простаком, особенно в «Мольбах», где, изображая их беседующими друг с другом. Гомер заставляет Ахилла сказать Одиссею:
Сын богоравный Лаэрта, Улисс хитроумный и ловкий!
Должен на речи твои прямым я отказом ответить, —
Что я мыслю, скажу, и что совершить полагаю;
Ибо не менее врат Аида мне тот ненавистен,
Кто на сердце таит одно, говорит же другое.
Сам я лишь то возвещу, чему неминуемо сбыться
[6].
Эти слова раскрывают характер каждого из мужей, а именно правдивость Ахилла и его прямоту, а с другой стороны, многоликость и лживость Одиссея. Ведь, по Гомеру, эти слова Ахилла направлены против Одиссея.
Сократ. Вот теперь, Гиппий, я, кажется, понимаю, что ты говоришь: ясно, что многоликого ты почитаешь лживым.
Гиппий. Именно так, Сократ. Как раз таким изобразил Одиссея Гомер всюду — и в «Илиаде», и в «Одиссее».
Сократ. Значит, Гомеру, видимо, представляется, что один кто-то бывает правдивым, другой же — лживым, а не так, чтобы один и тот же человек был и правдив и лжив.
Гиппий. Как же иначе, Сократ?
Сократ. А твое собственное мнение, Гиппий, такое же?
Гиппий. Безусловно. Было бы странно, если бы оно оказалось иным.
Сократ. Пожалуй, оставим в покое Гомера: теперь уже невозможно его допросить, что именно он разумел, сочиняя эти стихи. Но поскольку, как видно, ты становишься сам ответчиком и тебе кажется, что ты единодушен с Гомером, то и говори сразу и за Гомера и за себя.