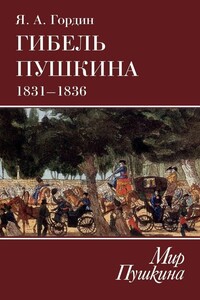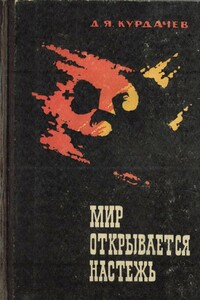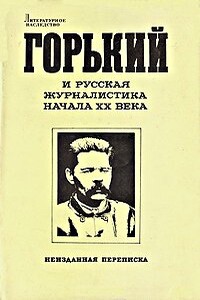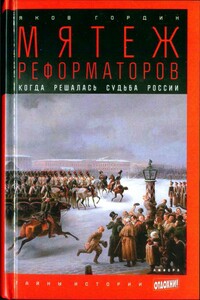Рискуя быть заподозренным в нескромности, я позволю себе внести в это предисловие автобиографический элемент.
«Гибель Пушкина» — или как это сочинение было названо при первой публикации в «Звезде» «Годы борьбы», — стала первой моей значительной публикацией. Мне было 38 лет. До этого для меня главным собственно литературным занятием было писание стихов и критических статей.
В 1967 году ленинградский ТЮЗ поставил мою пьесу. После неофициального успеха тюзовского спектакля ленинградские театры стали заказывать мне пьесы, а контролирующие инстанции с такой же последовательностью их запрещали. И как я теперь уверен, это пошло мне как литератору на пользу.
Параллельно со всем остальным я с середины шестидесятых стал прилежно заниматься тем, что можно назвать независимыми историческими исследованиями. Начал я с декабристов и естественно и неизбежно пришел к Пушкину.
Очевидно, я бы писал и публиковал крупные вещи и ранее 1974 года, но волею могучих обстоятельств оказался в «черном списке», что означало запрет на публикации, и вынужден был зарабатывать телевизионной работой под псевдонимами. Впрочем, выручали меня и старые театральные связи.
Запрет с меня был неожиданно и без всяких моих усилий снят в 1972 году, когда вышла книга моих стихов, пролежавшая в издательстве лет пять. А тут приблизился пушкинский юбилей, и «Звезда», в которой я прежде публиковал рецензии, заключила со мной договор на нечто о Пушкине.
К приятному моему удивлению, сочинение о Пушкине было встречено многими уважаемыми мною людьми более, чем положительно.
Едва успел выйти июньский юбилейный номер «Звезды», как я получил письмо, датированное 23 июня 1974 года, — от Александра Константиновича Гладкова, эрудита, сотрудника Мейерхольда, впоследствии автора интереснейших книг о Мейерхольде и Пастернаке, известного широкой публике как автор пьесы «Давным-давно» / фильм «Гусарская баллада»/.
«Дорогой Яша!
С большим интересом прочитал Ваши „Годы борьбы“. Казалось бы, все это давно известно, но Вы выстроили факты с железной логической последовательностью, строго отбирая главное, и хотя почти не говорите о том, о чем пишут наиболее охотно — о последней дуэли — эта завершающая драма в жизни Пушкина делается совершенно понятной и трагически неизбежной. Конечно же, не светские нравы, не сословные предрассудки, не африканский характер, а именно развитие глубокой внутренней драмы является единственным объяснением событий февраля 1837 года. И я снова думал, читая Ваше сочинение, — какой простор открывается перед биографом, когда он свободно пишет и об ошибках гения, и о ложных шагах, и о неудачах, не стремясь возвеличивать и украшать его в каждом его поступке. Ваша самая сильная сторона /не только в этой работе/ — безупречная логика и редкая способность к генерализации темы. Вы ни о чем не умалчиваете, ничего не скрадываете /„Стансы“, например/, и как от полной правды Пушкин как человек выигрывает. Кроме того, Вы соприкасаетесь здесь с одним и ныне актуальным спором, который я лично вел этим летом с лауреатом /Солженицын. — Я. Г./: схематично говоря, о том, что должно делать „внутри структуры“ или вне ее».
Мне, разумеется, тоже было приятно узнать мнение человека, отнюдь не склонного к комплиментам.
Разговоров тогда о моей работе — особенно в Москве — было много, но в печатные критические тексты эти разговоры не реализовались. Остались они в частных письмах. Это подтвердилось, когда случайно купив книгу — посмертную — талантливого «новомирского» прозаика Виталия Семина, рано умершего, составленную другим «новомировцем» Игорем Дедковым, я наткнулся там на его письмо критику Льву Левицкому, где Семин, в частности, писал: «Прочел в „Звезде“ Я. Гордина. Можешь представить себе, как прочел! Прекрасно! Кажется, в первый раз о Пушкине так. Поразительно. И о Дантесе почти ни слова. И правда ведь мелочь. Смертельно опасная, но не сама по себе. Вначале мне казалось, что слишком уж все логично. Одно за другим. Одно из другого. Жизнь глуповатей. Даже если это жизнь супергения. Такую прозу, если меня не подводит моя слабая пединститутская образованность, следует назвать картезианской. Но к концу автор меня убедил и подавил полностью. Господи боже мой, какая убедительная и страшная безнадега! И что там Николай, Бенкендорф, когда вокруг пусто? Что же остается? Господи, помоги мне полюбить моих врагов /…/ Да и где враги? Кто они? Бюрократическая аристократия? Деятели нового типа? Завистники? /…/ Мы сами, находящие глубину неизреченную в стихах Бенедиктова?»
Виталий Семин, ростовчанин, прославился своей «новомирской» повестью «Семеро в одном доме», вышедшей на излете «оттепели» и подвергшейся злобной критике. Главным его творческим подвигом был роман «Нагрудный знак OST». Пятнадцатилетним подростком Семин был угнан в Германию — концлагерь, работа на военном заводе. Власть ему этого не простила. Он был изгнан из Ростовского педагогического института и отправлен на строительство Куйбышевской ГЭС… Он так и не стал своим в официальной литературной среде. Его друзьями были Виктор Некрасов и Юрий Домбровский… Он жил трудной жизнью и умер в 50 лет…