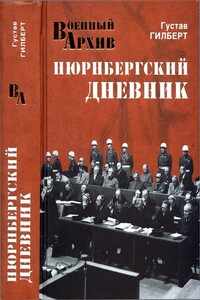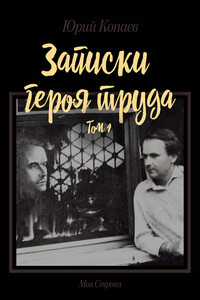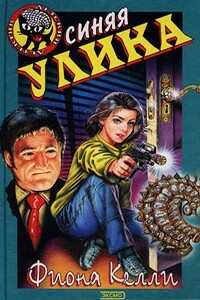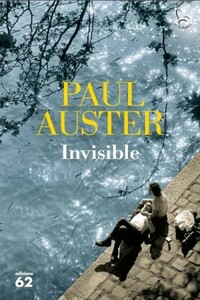Метафора судьбы — curriculum vitae.
«Клим! Думаю, что можно было бы заменить Снесареву высшую меру 10-ю годами. И. Сталин».
В этой краткой, как летящая стрела, тринадцатисловной записке из трагического тридцатого провиденциально пересекаются три имени, по-разному, но весомо прочертивших свои пути на скрижалях Отечества. К той поре Иосиф Сталин — «полудержавный властелин», генеральный секретарь ВКП(б). Клим Ворошилов — наркомвоенмор СССР, властный над солдатами и матросами «на суше и на море». Андрей Снесарев — лубянский, бутырский узник, не столь давний начальник Академии Генштаба, военный мыслитель и стратег.
Но до той короткой записки ещё далеко…
* * *
Багровел ноябрь семнадцатого года. Рушилась не отдельная жизнь — рушилась исполинская держава. Судьба отдельного человека и судьба государства узловато переплетались. Две силы: традиционно-созидательная и революционно-разрушительная — противостояли друг другу- Одна в жертвенном противостоянии пыталась сохранить устои Отечества, другая, будто кроваво-красная лава, затопляла необозримое крестьянское поле страны, ломая российскую жизнь.
Кто же он теперь? Кто теперь генерал Снесарев? Полководец без войска? Учёный без научной аудитории? Государственный муж без государства?
Исходивший и объехавший далёкие земли и моря, он медленно брёл заснеженной окраиной Острогожска, уездного городка Воронежской губернии, и ловил себя на мысли, что ему хочется попасть туда, где более полувека назад он издал первый младенческий крик. Желание вполне исполнимое в иное — мирное, более спокойное время: его родная донская слобода Старая Калитва располагалась в сотне с небольшим вёрст отсюда, она была Острогожского уезда.
Старая Калитва, что он помнил о ней?! Затравелый, под вечными ветрами холм, откуда радостно было ребёнку глядеть на убегающие вдаль луга, а за ними шлем Мироновой горы, на морщинистый от ветра синий Дон и тёмный задонский лес. Но воспоминаниями не спастись. Спастись? Нет ли в этом нечаянном ощущении чего-то безысходного, трагически неотвратимого? Мысль о спасении является грешному миру, когда к нему уже подбираются сполохи карающего огня — небесного или инфернального.
Можно, разумеется, попытаться вглядеться в грядущее. Пусть не в своё одиночное, но в грядущее одной семьи. А значит, и родины. Но думать о будущем — не накликать ли чёрные молнии? С той поры, как разразилась эта нескончаемая война, как только ни называемая: мировая, императорская, отечественная, всенародная, праведная, священная или же империалистическая, германская, бессмысленная, неправедная, позорная, — он стал реже мыслями и желаниями искушать грядущее, понимая, что упредить его, тем более распорядиться им, сверстать его по-своему столь же невероятно, как если бы наползающую тучу искромсать и разогнать мечом, пусть даже изготовленным из дамасской стали. Снесарев в одном из окопных писем признавался жене: «Я стал ещё суевернее, чем был. Избегаю говорить о будущем».