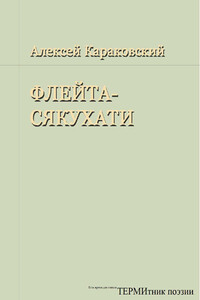Пожилой педагог из Курска оставил после себя в приёмной неприятный животный запах и лёгкое недоумение от не относящегося к работе вопроса, почему уже 17 декабря, а в Москве ещё до сих пор не продают ёлки. Награждённый непониманием, он удалился, и мы с Оксаной вздохнули свободнее в прямом смысле слова.
Оксана выглядит меня моложе на два года, но старше на семь. Рядом с ней я не чувствую ни своего, ни её возраста, потому что я пришёл получить характеристику для представления в отдел аспирантуры, и я не вспомню об Оксане до следующей характеристики.
Можно идти, и я выхожу через лестничный пролёт на улицу, не забыв сказать привет Женьке Андреевскому, Тане Озерецкой, Серёге Королёву, Даше Платоновой и ещё нескольким парням и девчонкам, с которыми я когда-то вместе учился. Сейчас я готовлюсь покидать страну, и их существование заранее ничего для меня не значит, так же как и секретарша Оксана из приёмной декана факультета педагогики и психологии Виталия Александровича Сластёнина. Я уже уехал отсюда, не приехал туда, а осталось всего две недели до Нового Года, и меня уже нет в этом году, как и нет ещё в будущем. Я уже не родился, я ещё не умер.
Собственно говоря, идёт великий снегопад. Мыльная пена покрывает лобовые стёкла черепашно ползущих автомобилей, окружает изысканными абажурами светочи фонарей и даже свисает с носа памятника всенародно великому артисту Никулину.
Но это в Центре. Если верить слухам, то в сравнительно густо населённых, но более пустынных окраинных районах Москвы ситуация близка к катастрофической. Немалая часть многоэтажных домов засыпана, как минимум, на треть; а тихие городские речки Яуза, Городня, Лихоборка и Сетунь вышли из упокоенных веками берегов и понесли дикие буранные потоки концентрическими кругами вдаль — от Новгорода к Липецку, от Мурманска к Оренбургу… что уж там говорить о грустных хрущёвых кирпичиках, похороненных в памяти до ближайшей оттепели на бескрайних просторах белого безмолвия Карачарово, Медведково и Перово?…
Мир аннулируется входом в подъезд. Я поднимаюсь по тёмной, заснеженной лестнице, оставляя за собой только длинный путь червяка от одной границы яблока к другой такой же границе.
Младенцы вползают в мир. Я это точно знаю по тайной манере падения снега, увядания цветов, истончения света на льдистом отблеске стали. По другим, не менее неуловимым признакам я отмечаю закат солнца, падение планет, повышение уровня мирового океана и даже незаметное цветение скромной шишечки можжевельника, спрятавшейся от людского глаза где-то далеко на юге или юго-западе… Но и это знание — эмбрион. Откуда оно? Зачем? Я не знаю. Спасёт ли, сохранит? Или, напротив, уничтожит? И на это нет ответа. Будет ли иметь продолжение? К чему ведёт? К тому, что под снегом? Вряд ли…
Истина всегда носит в себе черты апокрифичности. Я никогда не приближусь к ней — ни на сотую часть диаметра яблока.
Я приезжаю в бухгалтерию за зарплатой, но Светланы Ивановны опять нет на месте. Я ищу Олю, но и она отсутствует. «Женщины всегда неохотно расстаются даже с чужими деньгами», — фальшиво думается мне.
Звонит мобильный телефон, и все, как обычно, сразу же начинают рыться в карманах и сумках, но это у меня. «Лёх, привет, деньги получил?» — «Да, встречаемся через двадцать минут на „Профсоюзной“!». Я получаю зарплату за нашего внештатного сотрудника Воскобойникова.
Максим Воскобойников работает в отделе кадров ГУВД, но у нас платят больше. «Держи… две тысячи… пятьсот… десять… двадцать… пятьдесят… ещё семь буду должен. Или — в фонд голодающих детей Сомали» — «Нет, на Сомали не соглашусь, только — Анголы!» — «Ну, Анголы так Анголы…» — «Может, по пиву?» — «Не получится, Макс, мне уже пора… лечу!» — «Ну, лети-лети… попутный ветер в спину…».
И опять — суета-суета, метро-метро… до следующей зарплаты, Максим.
Один из видов существования, выходящего за пределы повседневной торопи и сумбура — сон. Но мне опять всю ночь снились какие-то нимфы, танцующие какие-то идиотские танцы с такими же картонными цветами и наперебой объясняющие закономерности тоники каких-то уродливых духовых инструментов, похожих на огромные бочки… наверное, всё это потому, что уже месяц, как я случайно купил у старика-японца маленькую грациозную флейту сякухати, но так до сих пор не смог издать на ней ни звука. И не смогу, если так и буду ездить с ней в метро, украдкой пытаясь выдуть из её нутра хоть какое-то подобие привычной мне гаммы…
Нужно просто успокоиться и признать, что никогда не жить моей расплывчатой переменчивой сущности в одном из тех воздушных замков, возведением которых так некогда прославился Фома-Апостол, никогда не ходить по заповедным рекам земным и небесным, никогда не вкушать нектар плодов запретных и праведных, никогда не продолжаться и в никуда не исчезать… а просто присесть на пол в самом уютном уголке моей квартиры (на кухне), закрыть украдкой глаза и осторожно увидеть сияние уже зашедшего солнца между сомкнутых век горизонта и вечного неба… может, только тогда маленькая бамбуковая флейта сякухати начнёт подчиняться воздуху, исходящему из моей груди…