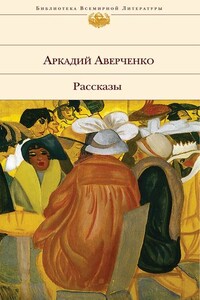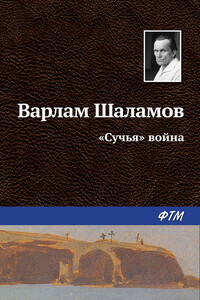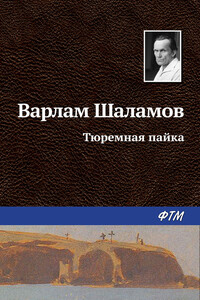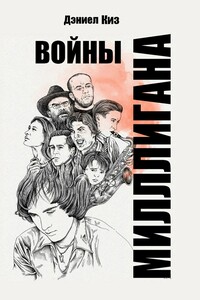Глава 1
Ментальный погребок
Никогда не думал, что со мной такое случится.
В ранней юности близорукость у меня была 20/400[1]; стоило снять очки – перед глазами все расплывалось. Я не сомневался, что однажды совсем ослепну.
Я готовился к слепоте. Завел особый порядок вещей – чтобы все они находились под рукой и чтобы каждая имела собственное неизменное место. Я завязывал глаза и тренировался искать разные предметы на ощупь; я гордился собой, когда это получалось быстро.
Я не ослеп. В очках я вижу дай бог каждому.
Я по-прежнему могу, не вставая со стула, дотянуться практически до любой нужной вещи. Не потому, что хорошо помню, что где лежит. А потому, что выделяю специальное время на наведение порядка и при этом включаю логику. Остается только вспомнить, что где ДОЛЖНО лежать. Но со мной происходит непредвиденное. Я приступаю к какому-нибудь делу, куда-нибудь направляюсь или просто вхожу в другую комнату – и замираю. Что конкретно я ищу? Ответ является в форме ментального щелчка. Целое мгновение мне жутко. И всякий раз я думаю о Чарли Гордоне – об одной из его последних фраз в рассказе «Цветы для Элджернона»: «Я помню што я зделал штото но непомню што»[2].
Персонаж, которого я придумал сорок с лишним лет назад, нейдет у меня из головы. Я его гоню – он ни с места.
Чарли меня преследует; надо выяснить почему.
Вот что я решил: единственный способ унять Чарли – это вступить в лабиринт времени с другого конца, пройти его до начала, доискаться истоков, изгнать призраков прошлого. Может, заодно я выясню, когда, как и почему стал писателем.
Самое трудное – начать. Материал уже есть, говорю я себе; не нужно ничего придумывать. Просто вспомни. Разложи по полочкам. Не понадобится прорабатывать интонации лирического героя, как для новеллы и романа. На сей раз, Дэн, ты сам – лирический герой. Ты пишешь о том, КАК ты пишешь; выуживаешь сокровенное из собственной жизни, которая стала жизнью Чарли Гордона.
В голове моей эхом отзывается первая строка «Цветов»: «Доктор Штраус говорит мне надо писать што думаю и што случаетца сомной начиная с сиводьнешнево дьня. Я незнаю зачем но он сказал это важно потамушта тогда они поймут гожусь я им или нигожусь. Я надеюсь што гожусь. Мисс Кинниан говорит может они зделают меня умным. Я хочу быть умным. Меня зовут Чарли Гордон…»
Даром что приведенный абзац – первый в оригинальном рассказе, началось все иначе. Равно как и последние слова «…положите цветиков Элджернону на могилку она на задним дворе…» – не конец истории. Я отчетливо помню, где был в тот день, когда в моем мозгу впервые замелькали идеи, на которых затем строилось повествование.
Морозным апрельским утром 1945 года я вышел к станции нью-йоркской подземки под названием «Саттер-авеню». До поезда, который домчал бы меня из бруклинского района Браунсвилль на Манхэттен, было минут десять-пятнадцать. Там, на Манхэттене, мне следовало пересесть на местную линию и уже по земле ехать до Вашингтон-сквер. Я направлялся в Университет Нью-Йорка. Помню, я ждал поезда и думал: где взять денег на осенний семестр? Первый курс еще не кончился, а мои сбережения (плоды трудов на нескольких работах) были на исходе. Еще на три года их определенно не хватило бы.
Я заранее приготовил пятицентовую монетку – столько стоил проезд – и вдруг взглянул на нее иначе. Вспомнился папин рассказ. Мой папа Вилли однажды сознался, что в Великую депрессию ходил пешком по двадцать миль в день. Мы жили в Бруклине, в двухкомнатной квартирке. Так вот, папа каждое утро шагал через весь Бруклин и дальше по Манхэттенскому мосту – это десять миль; а каждый вечер возвращался той же дорогой – еще десять миль. И все для того, чтобы сэкономить две пятицентовые монетки.
Как правило, папа трогался в путь еще затемно, когда я спал; но иногда я просыпался до его ухода и успевал поглядеть, как папа за кухонным столом макает рогалик в кофе. Это был весь его завтрак. Меня кормили горячей кашей. Время от времени я даже получал целое яйцо.
Завтракая, папа смотрел прямо перед собой. Взгляд его был пуст, что давало мне повод думать, будто и голова у папы в такие моменты пуста. Сейчас я понимаю: папа пытался сообразить, как нам выпутаться из долгов. Покончив с кофе, он вставал из-за стола, трепал меня по макушке, говорил: «Веди себя хорошо. Не отлынивай от уроков». Я воображал, что папа уходит на работу. Лишь много позже я узнал, как он стыдился, что работы не имеет.
Возможно, подумал я, монетка в моей ладони – как раз из тех, сэкономленных папой.
Я сунул монетку в щель, миновал турникет. Однажды я проделаю папин путь; тоже пройду пешком из Браунсвилля до Манхэттена. Прочувствую, каково было папе. Так я себя настроил. Но маршрут папин не повторил.
Наверное, впечатления и образы, подобные этим, улеживались у меня в голове, словно корнеплоды в погребе; пребывали во тьме, пока не потребовались для литературных опытов.