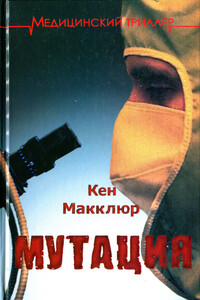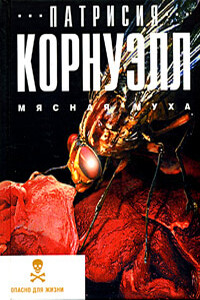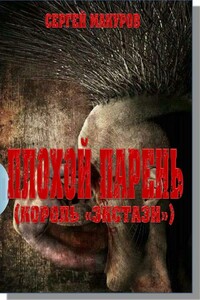Все кардиохирурги — сукины дети, и Конвэй не составляет исключения. Он ворвался к нам в патолабораторию, не сняв зеленого хирургического халата и шапочки, трясясь от ярости. Осатанев, Конвэй стискивает зубы и монотонно цедит слова. Лицо его краснеет, а на висках проступают багровые пятна.
— Кретины, — шипел Конвэй, — проклятые кретины! — Он изо всей мочи стукнул кулаком по стене — склянки в шкафах задребезжали.
Мы все понимали, в чем дело. Конвэй делает в день по две операции на сердце, причем первая начинается в половине седьмого утра. Если два часа спустя он появляется в патолаборатории, причина тому может быть только одна.
— Безрукий идиот, дурак! — Конвэй поддал ногой корзинку для мусора. Она, гремя, покатилась по полу.
Иногда объектом его ярости становился ассистент, производивший вскрытие грудной клетки, иногда сестры, иногда техники по аппарату искусственного кровообращения. Как ни странно, ярость его никогда не обрушивалась на самого доктора Конвэя.
— Приличного анестезиолога мне не видать, — шипел Конвэй сквозь зубы, — хоть до ста лет живи!
Мы переглянулись. На этот раз речь шла о Херби. Раза четыре в год виноватым оказывался он. Все остальное время они с Конвэем были добрыми друзьями. Конвэй превозносил его до небес, называл лучшим наркотизатором в стране.
Но четыре раза в год на Херберта Лендсмана возлагалась ответственность за «сне», что на медицинском жаргоне означает «смерть на столе». При операциях на сердце это случается нередко: в пятнадцати случаях из ста у большинства хирургов, в восьми случаях из ста у таких светил, как Конвэй.
Разумеется, в Бостоне ходили сплетни насчет того, каким образом он умудряется удерживать этот процент (именуемый хирургами — «процент убоя») на столь низком уровне. Говорили, что Конвэй не связывается с людьми старыми. Говорили, что Конвэй не допускает никаких новшеств, никаких рискованных процедур. Все это неправда. Конвэи держал свой «процент убоя» на низком уровне потому, что был превосходным хирургом. Только поэтому!
— Сволочь проклятая, идиот! — говорил Конвэй, злобно озираясь по сторонам. — Кто сегодня дежурит?
— Я, — ответил я. В тот день старшим патологоанатомом в лаборатории был я. Все должно было проходить через меня. — Вам нужен будет стол?
— Да! — сказал он и ругнулся.
— Когда?
— Сегодня вечером.
Такая уж у Конвэя была привычка. Он всегда делал вскрытия по вечерам, часто заканчивая работу поздно ночью.
— Я сообщу в методкабинет, — сказал я, — они резервируют для вас отдельный бокс.
— Ладно! — Он опять выругался и стукнул кулаком по столу. — И ведь угораздило же — мать четырех детей!
— Я отдам распоряжение все подготовить.
— Отдала концы прежде, чем мы дошли до желудочка! Бесповоротно! Массировали сердце тридцать минут, и ни черта!
Он поднял кверху руки, повернул их — жестом хирурга — ладонями к себе и посмотрел с укором на свои пальцы, словно обвиняя их в предательстве. «В сущности, они ведь его предали», — подумал я.
— Господи! — сказал Конвэй. — Почему я не дерматолог? Еще не было случая, чтобы дерматолог уложил кого-то в гроб.
Затем он пинком распахнул дверь и вышел из лаборатории.
После его ухода один из стажеров, заметно побледнев, спросил меня:
— Он всегда такой?
— Да, — ответил я. — Всегда. — И отвернулся к окну, за которым сквозь сетку мельчайшего октябрьского дождя медленно двигался обычный для часа «пик» поток машин. Я бы гораздо больше сочувствовал Конвэю, не знай я, что эта сцена была разыграна им исключительно для себя, что подобные закидоны, помогающие ему сбросить стресс, стали как бы ритуалом после каждого летального исхода операции.
Конвэй не только учинял разгром в лаборатории, он еще и тормозил нашу работу. По утрам это было особенно некстати, потому что в эти часы мы заняты исследованиями биопсий и без того часто отстаем от графика.
Я отвернулся от окна и взял новую биопсию. У нас в лаборатории исследования ведутся в очень быстром темпе.
Зазвонил телефон. Ясно, это из операционной — Скенлон бьет копытом, потому что мы не сообщили ему результата за тридцать секунд. Скенлон ничем не отличается от других хирургов — для полного счастья ему непременно нужно все время кого-то резать. Он ненавидит стоять без дела и смотреть на огромную дыру, проделанную им в чьей-то груди, пока патолаборатория даст ему свое заключение. Ему и дела нет, что после того как он взял биопсию и положил ее на стальной поднос, санитар должен проделать весь путь от крыла, где находятся операционные, до лаборатории. Скенлон не задумывается и над тем, что в клинике еще одиннадцать других операционных и что с семи до одиннадцати утра работа в них кипит. Четверо патологоанатомов находятся в лаборатории в эти часы, но заключения все равно задерживаются. Тут уж ничего не поделаешь — просто хирургам нужно покуражиться. Это для них отдушина.
По дороге к телефону я стянул левую резиновую перчатку. Рука была потная, я вытер ее сзади о брюки и только тогда взял трубку. Мы аккуратны с телефоном, но для пущей предосторожности в конце каждого дня трубку и аппарат протирают спиртом и формалином.