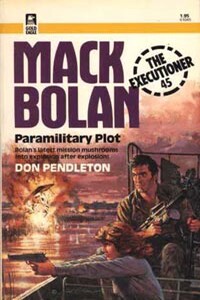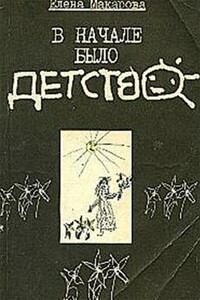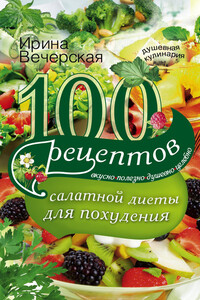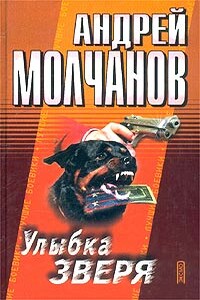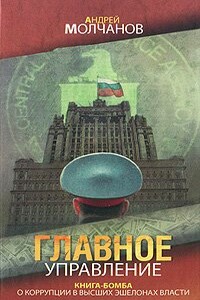Антон Филиппов ехал на своем стареньком "жигуленке" из института, где оканчивал пятый курс вечернего отделения. Ехал, то и дело сбрасывая рычаг переключения передач в "нейтралку", и с досадой думал, что завтра на работу придется отправляться на метро, поскольку денег на бензин, который он сейчас столь усердно экономил ездой на холостом ходу, в ближайшие три дня не предвидится, а занять у сослуживцев — дело дохлое, зарплаты в конторе мало того, что задерживали, но и урезали. Попросить в очередной раз у отца? А что отец? Тоже — нищий научный сотрудник из того же, как и он, Антон, конструкторского бюро.
Некогда, в незабвенную социалистическую эпоху, КБ процветало, выполняя оборонные заказы, связанные с атомным подводным флотом страны, даже на должность рядового инженера в нем существовал конкурс, но после краха коммунистической доктрины в считанные годы все сникло, захирело, а после началось какое‑то вялотекущее выживание, напрочь лишенное основательных перспектив. Былая мощь и слава советской науки канули в область мифологии.
И зачем он пошел по стопам отца, зачем внял его оптимистическим прогнозам и заверениям о возрождении значимости статуса ученого? Вон, дорожный мент на перекрестке… Сытостью от мента веет, как от бегемота, да и рожа под стать… Тормозни его сейчас мент — не откупишься, а техосмотра на машину нет, старая тачка, без взятки соратничкам этого уличного вымогателя хрен получишь заветный талон… В их банду, что ли, податься, покуда возраст позволяет? Там, в банде, формулы незамысловатые и все глубоко жизненные, к материальным ценностям и потребностям привязанные…
Так и есть, пришла беда, тормозит мент, машет лениво палкой, приехали!
Толстые пальцы небрежно, словно карты после сдачи, перетасовали техпаспорт, водительское удостоверение и штрафной талон.
— Пройдите в машину на освидетельствование, — последовала команда, и патрульный кивнул на стоявший неподалеку "уазик" с надписью "Милиция" на двери.
— В смысле — на алкоголь? — спросил Антон, с некоторым воодушевлением сознавая, что попал в плановую проверку на пьянство за рулем и к просроченному техосмотру, видимо, патрульный цепляться не станет.
— В смысле, — прозвучал неприязненный ответ.
Задняя дверь "уазика" открылась, Антон протиснулся в темноту салона, отдаленно удивившись, что в нем не горит ни одна лампа, и последнее, что запомнилось ему из этого дня, — именно свое вялое недоумение, чьи‑то расплывчатые силуэты на сиденьях машины и — тупой внезапный удар в голову, смявший испуганно встрепенувшееся сознание в хаотичное раздрызганное забытье бредовое, ускользающее, слепо тыкающееся в неясные прорехи, за которыми тускло угадывалась какая‑то явь…
И проявилась эта явь, когда он очнулся на соломенной подстилке в смрадной духоте дощатого сарая, увидел над собой суровое и смуглое, в морщинистых складках лицо, надвинутую на лоб высокую баранью папаху и услышал незнакомое, на чужом языке, глухое слово, в котором звучало равнодушное удовлетворение — мол, хорошо, жив…
Вкус ледяной воды на иссохшем, вспухшем языке, пробивающийся ярко–голубой свет из щели в дверном косяке, тепло тяжелого и сыроватого, как бетонная плита, старого ватного одеяла, укрывшего его тело… И сон. На сей раз — просто сон — властно обрушившийся, исцеляющий, сулящий непременное пробуждение…
Он подумал, а может, вспомнил: так, наверное, ощущает себя душа, вновь вернувшаяся на землю в тело младенца: я снова здесь, я еще не знаю, где я, но узнаю об этом вскоре… И — узнает, единственно — забыв о себе прежней…
На следующее утро в сарай пришел старик, вновь дал ему воды, несколько пресных, словно пластилиновых лепешек, затем помог встать с подстилки и вывел из сарая.
Вокруг расстилались темно–зеленые низкие горы, уходящие за горизонт. Хищная птица парила в воздухе. Он стоял на плоской проплеши скалы, а за спиной его ютилось убогое горное селение, составленное десятком сложенных из камней жилищ вдоль круто взбирающейся в гору, мощенной теми же камнями улочки.
Приметы окружающего его пространства были очевидны…
— Я в Чечне, да? — не оборачиваясь на старика, произнес он в пространство, неотрывно глядя на повисшую в воздухе птицу. И в ответ услышал хриплый насмешливый хохоток. Рядом со стариком, невесть откуда появившись, стоял бородатый крепыш, одетый в камуфляж, с перекинутым через плечо автоматом.
— Догадливый, да? — сказал крепыш. — Ну чего, догадливый, хочешь к маме–папе в Москву свою, да? Тогда сейчас кино снимать будем, хорошо понимаешь? Скажешь папе, что будешь жив, пока он послушный будет…
— У моего отца нет денег, — проронил он. — Это глупо…
— Какие деньги у профессора? — согласился крепыш. — Он нищий, и ты нищий. Но два нищих, дай им верное дело, миллиард заработают… Иди за мной, кино готово, пленка в камере. Режиссер у нас, да? Он все тебе скажет, как говорить. Кино сделаем, обед будет. Потом со стариком за хворост пойдешь в лес, трудотерапия называется… Тут тебе много еще трудотерапии будет, здоровым в Москву приедешь…
А потом потянулись безъязыкие дни, словно распятые на изгвазданных овечьим навозом стенах сарая, дни в тряпье, в покоробленных солдатских кирзачах, в ужасе ночных пробуждений, когда холодные веки поднимали темень, в которой звякали кандалы на затекших лодыжках, и не было конца отчаянию, и вспоминалась Москва — больно и сладко, и вспоминался тот, кто некогда ехал в тепле машины в тепло светлого дома и досадовал, что завтра ему придется тащиться на работу на метро, — среди людей, полированного мрамора, реклам, сотен пестреньких магазинчиков… И неужели этот дивный мир представлялся ему до скуки обыденным и серым?