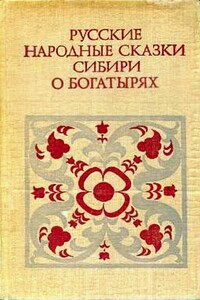Егоша был голубоглазый, светловолосый и простодушный. И никогда ни в чем не сомневался. Все вокруг казалось ему таким, каким и должно было быть. Его родители — лучшие родители в мире. Страна, в которой он родился, замечательная страна, а город — этот лес каменных гигантских домов и скверов, в которых росли огромнейшие деревья, — его удивительный и прекрасный мир.
Ведь он другого мира не знал и любил то, что имел.
Игрушек у Егоши хватало, но все они были сломаны. Если быстро не ломались сами от плохого качества, то он их разламывал, чтобы посмотреть, что же там, внутри.
Что же там, внутри, — это была его страсть. Не потому, что он был такой уж гениальный ребенок, такой уж вундеркинд, а просто любопытный.
Как-то в песочнице, ни с того ни с сего разозлившись, более рослый мальчик ударил Егошу лопаткой по голове.
— Почему? — изумился Егоша.
— Так! Так! — кричал мальчик.
С тех пор и на всю жизнь остался у Егоши крошечный шрам над бровью, навсегда пробив брешь в его младенческом простодушии. И когда потом его обижали — в школе, институте или на работе, — он не удивлялся и только почесывал тонкую белую полоску на лбу.
По дороге жизни он пошел вместе со всеми. Это было просто. Все учились в школе, и он учился в школе. Все заканчивали институты, и он закончил институт, все где-то работали, и он стал работать в производственном отделе большой организации.
Наконец, все женились — и Егоша женился. Жена ему нравилась, она была теплой и ласковой. Но становилась иногда холодной и колючей, тогда она нравилась ему меньше.
Вот так жизнь и шла, как у всех. Конечно, иногда накатывало на него беспокойство, и ужасно хотелось взломать этот привычный ход жизни, эту глаз намозолившую обыденную поверхность, эту облепившую его паутину условностей, прописных истин, избитых клише и посмотреть, что же под ними — внутри. Тогда он чаще встречался с друзьями, пил водку, много говорил, все пытался что-то выяснить, но в результате оказывалось только одно — похмелье.
— Чем я лучше других? — думал тогда Егоша. — Что, мне больше, чем всем, надо? Как все, так и я.
Пришло время, и у Егоши умерла мать.
Говорили…
Мать — это мать.
Мать у человека одна.
Так уж заведено — терять родителей.
Все подбадривали Егошу и жалели, а он был довольно спокоен, вроде как немного туповат. Это смущало его и вызывало комплекс вины. Мать — это мать, — говорил себе Егоша. — Мать у человека одна. Но все равно оставался спокойным и ничего не чувствовал. Так уж заведено — терять родителей, — повторял он в свое оправдание и этим даже немного утешался.
На поминках Егоша совсем забылся, выпил лишнего и даже говорил с соседом по столу — каким-то дальним родственником — о чем-то веселом.
Спать он в тот вечер лег рано. Жена заставила его выпить снотворное, и он тут же заснул. Но проснулся уже через несколько часов, среди ночи, от ужаса — ему приснился страшный сон. Ему снилось, что они с матерью идут по темному туннелю метро, быстро, почти бегут, было очень страшно. Егоше чудилось, что их что-то догоняет, что-то угрожающее и ужасное, и они бегут, бегут, чтобы от этого ужасного спастись. И Егоша держит мать за руку.
После Егоша долго не мог заснуть, думал даже разбудить жену и опять попросить снотворное. Но почему-то этого не делал, просто лежал и смотрел в потолок, который нависал над ним как душный полог.
На другой день он с полным правом мог не пойти на работу, но пошел, чуть пьяный с похмелья и от недосыпа. После работы тоже оказались какие-то дела, и он провозился с ними до поздней ночи. Ночью ему опять приснился все тот же сон.
Они бежали с матерью по темному туннелю метро, а вокруг их окружало что-то враждебное, злое, опасное, еще более пугающее тем, что Егоша не понимал — что ЭТО такое. Он просыпался весь мокрый, с отчаянно бьющимся сердцем и опять проваливался все в тот же сон.
Егоша уже боялся ложиться спать и по вечерам все бродил и бродил по квартире, придумывая то одно, то другое занятие. Но спать все-таки надо, и он ложился.
К великому его облегчению, через несколько дней они с матерью-таки выбрались из этого проклятого туннеля и с невероятными усилиями, еле передвигая окаменевшие ноги, как бывает во сне, преследуемые все тем же ужасом, пошли вверх по лестнице.
Егоша помрачнел, исхудал, ни с кем не хотел разговаривать. И все думали, что это он так переживает.
После того, как они с матерью выбрались из туннеля, ему все-таки стало немного легче. Но сны продолжали его преследовать.
Был сон — он вел мать, совсем уже старушку, по проходу в пустом допотопном автобусе, автобус бросало и трясло, как бывает на плохой проселочной дороге. Егоша крепко держал мать, чтобы она не упала, и вел ее к выходу.
Какое-то время сны ему не снились. Наконец приснилась огромная палата, полная света и воздуха, и он точно знал, что там должна быть мать, и рвался к ней, но какая-то женщина в белом халате его туда не пускала.
— С ней все в порядке, — говорила ему женщина. — Не беспокойтесь.
На сороковой день Егоша, один и даже без цветов, отправился в колумбарий и долго стоял перед нишей, в которой была захоронена материнская урна. Он захватил с собой маленькую бутылочку водки, но хоть и замерз, пить не стал. С медальона на него смотрела молодая мать, и смотрела какими-то очень живыми, не потусторонними глазами. Вдруг горячая, но не обжигающая, сильная волна окатила Егошу, окатила и ушла. И ему сделалось легче.