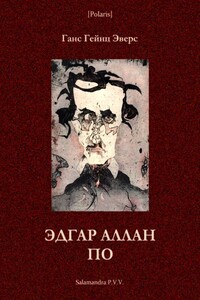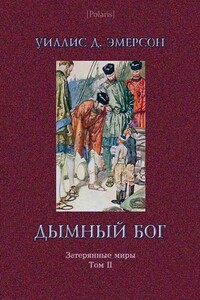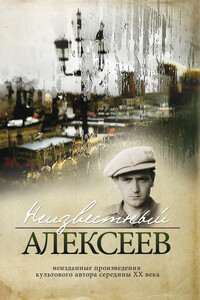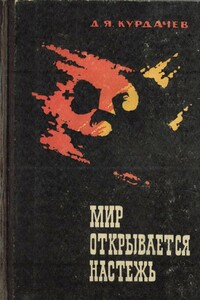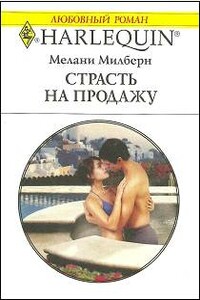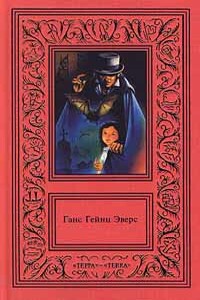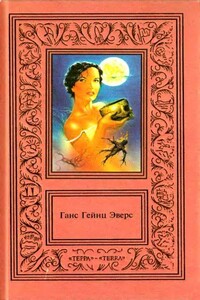Легко ступают мои ноги по серым камням старой дороги. Как часто поднимался я по ней к священной роще Альгамбры! Врата Гранатов широко распахиваются навстречу моей страсти: за ними нет времени — за ними так незаметно и быстро оказываюсь я в стране сновидений. Там, где шелестят вязы, где струятся фонтаны, где в гуще лавров поют сотни соловьев, там я буду думать о моем поэте.
* * *
Не стоит этого делать. В самом деле, не стоит.
Не стоит читать первую попавшуюся книгу о вашем любимом художнике. Почти неизбежно вы будете разочарованы — как может церковник говорить о Боге? Вы должны быть осторожны, очень осторожны.
Вам следует поступить так:
Вы любите Фирдоуси? — Гете писал о нем; вы не знакомы с Гете? Что ж: прочитайте все написанное Гете, прежде чем читать то, что он написал о персидском поэте. Только тогда, когда вы досконально узнаете писавшего о вашем любимце, вы сможете решить, действительно ли вы хотите прочитать то, что этот автор говорит о нем! — Вот способ, что поможет вам избежать разочарования.
Никогда не читайте того, что пишет о вашем любимом художнике всякий встречный и поперечный. Будь даже этот встречный и поперечный звездой первой величины, а ваш любимец крошечным туманным пятнышком на небосводе — не читайте! Не читайте, пока вы тщательно не изучите встречного и поперечного, пока не убедитесь, что он вправе говорить о вашем художнике.
Я поступил не так. У меня в крови бродит густая взвесь невыносимой немецкой основательности. Своего рода чувство долга. Я подумал: если я собираюсь писать о любимом поэте, мне нужно прочитать написанное до меня другими. Я подумал: «А вдруг…»
Поэтому я прочитал многое из того, что было написано об Эдгаре Аллане — и теперь я разочарован, я крайне разочарован. Был лишь один, чей дух оказался способен понять его.
Один лишь Бодлер…[1]
Бодлер, чье искусство взрастил гашиш. — Мог ли он не понять того, кто творил образы несравненной красоты из алкоголя и лауданума?!
* * *
Теперь я должен забыть все сказанное другими. Забыть этого ужасного Грисуолда, чья биография По есть не что иное, как ядовитая рвота: «Он пил, он пил, как не стыдно, он пил!». Забыть еще более мерзкого Инграма, этого болвана, который решил спасти честь моего художника, без конца повторяя: «Он не пил, он ни капельки не пил!».
Нужно поскорее, пока я не забыл, записать даты, что я у них почерпнул:
«Эдгар Аллан По, родился января 1809 года в Бостоне. Ирландская семья, долгая родословная, норманнская, кельтская, англосаксонская, итальянская кровь. 1816 в Англию с приемными родителями, несколько лет в школе-интернате в Сток-Ньюингтоне. — 1822 обратно в Америку, 1826 студент в Ричмонде, затем в Шарлотсвилле. 1827 путешествие в Европу[2],сопровождавшееся неведомыми приключениями, 1830 кадет офицерской академии в Вест-Пойнте, 1834 редактор Southern Literary Messenger в Ричмонде. 1836 женился на своей кузине Вирджинии Клемм. Он писал[3]. Жил попеременно в Нью-Йорке, Филадельфии, Ричмонде, Фордхэме. Ему пришлось очень тяжело. „Он пил“ (говорит Грисуолд)[4]. „Он совсем не пил“ (говорит Инграм)[5]. Умер 7 октября в больнице для бедных в Балтиморе, в возрасте сорока лет».
Итак, вот ключевые даты. Теперь я могу и их забыть.
* * *
— Но как же это трудно! — Довольно долго я поднимаюсь по алее вязов к королевскому замку. Поворачиваю налево и прохожу через монументальные Врата Справедливости. Я радуюсь высеченной над сводом руке[6], что защищает от сглаза; любезные церковники, думаю я, не осмелятся войти. Теперь я наверху — один в знакомых залах.
Я знаю, куда хочу направиться. Быстро пересекаю Миртовый дворик, отсюда через зал Сталактитов в Львиный дворик с фонтаном и двенадцатью львами. Налево, в зал Двух Сестер и зал Бифориев. И вот я здесь, на балконе Мирадор Дарача[7] — здесь, в этих покоях, жила Айша, мать Боабдиля[8]. Я сижу у окна и смотрю на старые кипарисы…
Как же все-таки трудно забыть! Внизу прогуливаются по саду мои высокоморальные церковники. Два английских лицемера, круглые шляпы, короткие трубки, черные платья. В руках бедекеры.
«Он пил!» — шипит один.
«О нет, он совершенно не пил!» — цедит другой.
Мне хочется столкнуть их лбами! Я хочу закричать им: «Прочь, крысы, прочь! Здесь сидит человек, грезящий о любимом художнике! Он пел на вашем языке… а вы о нем ровно ничего не знаете!»…
Они наконец уходят, хвала небесам! Я снова один…
* * *
— Он пил… он не пил! — так рассуждают англичане о своих поэтах! Они заставляют Мильтона голодать, они крадут у Шекспира труд всей его жизни, они копаются искривленными руками в семейной истории Байрона и Шелли, обливают помоями Россетти и Суинберна, сажают Уайльда в тюрьму и тычут пальцами в Чарльза Лэма[9] и По… ведь они пили!
Как же я рад, что я немец! В Германии великим людям разрешалось быть… безнравственными. Безнравственными… значит: не совсем такими нравственными, как добрые мещане и церковники. Немец говорит: «Гете был нашим великим поэтом». Он знает, что тот был личностью не слишком нравственной, но и не принимает это близко к сердцу. Англичанин говорит: «Байрон был аморален и потому не мог быть