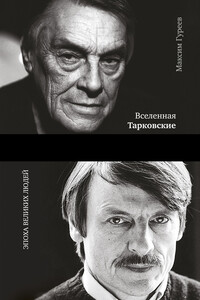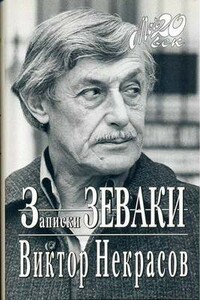Английская Реформация. – Пуритане. – Смиренные и воинствующие. – Беньян и Мильтон.
Английская Реформация была делом короля Генриха VIII и его советников. В ней не было ничего решительного, ничего такого, что могло бы успокоить религиозную тревогу верующих людей XVI века. Английская церковь отказалась от иноземного главы – папы, но немедленно же создала себе другого папу в лице короля. Тот был объявлен блюстителем истины, и уже от него зависело заставить своих подданных верить так или иначе. Не признававший его главою церкви подвергался преследованию и казни. Король, завладевший всеми монастырскими имуществами и неожиданно увидевший миллионы в своих обыкновенно пустых сундуках, принял горячо к сердцу дело Реформации, решился защищать ее, хотя бы для этого пришлось пожертвовать самыми близкими людьми – например, Мором. Но он желал в то же время остаться в тесных пределах реформы и удовлетворился одним отрицанием власти папы, которая оказалась в его руках. Но такое устройство сопровождалось значительными неудобствами. Полумера не удовлетворила никого. Искренние католики, как и искренние протестанты, одинаково шли на эшафот; другие сдерживали свое недовольство лишь благодаря страху перед жестокими наказаниями. Генрих VIII и его советники совершенно упустили из виду, что никакими указами нельзя изменить серьезнейших интересов человеческой жизни. Серьезнейшими интересами человеческой жизни в XVI веке были интересы религии, веры. Сказать англичанину того времени: «Примирись с нашим церковным устройством» – значило то же самое, что сказать англичанину XIX века: «Примирись с тем, что ты – нищий». Религия давала смысл и содержание человеческой жизни. Религиозное чувство было глубоким, религиозные сомнения проникали «до мозга костей» верующих всех стран и наций. Вот, например, одно любопытное признание. «Пусть не забывает никто, – читаем мы, – что я был монахом и отъявленным папистом, до такой степени проникнутым и даже поглощенным доктриною папства, что, если бы мог, готов был или сам убивать, или желать казни тех, кто отвергал хоть на одну йоту повиновение папе. Защищая папу, я не оставался куском холодного льда, как он и ему подобные, которые сделались, как мне казалось, защитниками папы скорее ради своего толстого брюха, чем по убеждению в важности этого предмета. Даже более: мне и до сих пор кажется еще, что они насмехаются над папою, как истые эпикурейцы. Я же отдавался доктрине всем сердцем, как человек, который страстно боится дня судного и несмотря на то желает спастись, желает этого с трепетом, проникающим до мозга костей» (Лютер).
Подобное настроение было общим среди верующих людей. Можно ли было шутить с такими людьми, приказывать им, во что и как верить? А между тем в Англии дело походило на шутку. Только что явившись на свет божий по королевскому указу, английская церковь немедленно же провозгласила себя учреждением божественным, исходящим из воли Промысла. Это было по меньшей мере дерзко, так как у всех на виду она появилась по воле не Промысла, а Генриха VIII, короля английского, – смертного, во-первых, и, во-вторых, ни в коем случае не лучшего из смертных.
Явились «нонконформисты» – несогласные. При всей своей покорности королю они в делах веры не желали подчиняться какому бы то ни было человеческому решению. Их преследовали, и, как водится, преследование повело лишь к тому, что из десятков стали сотни, а из сотен – тысячи.
«Они, – говорит Маколей, – незадолго перед тем, полагаясь на собственное истолкование священных книг, восстали против католической церкви, сильной незапамятной древностью и общим согласием. Необыкновенным напряжением умственной энергии они свергли иго этого пышного и державного суеверия, и нелепо было ожидать, чтобы они непосредственно после такого освобождения терпеливо подчинялись новой духовной тирании. Давно привыкшие при возношении священниками даров падать ниц, как перед сущим Богом, они научились теперь рассматривать мессу как языческий обряд. Давно привыкшие смотреть на папу как на обладателя ключей земли и неба, они научились считать его зверем, антихристом, человеком греха. Нечего было надеяться, чтобы они непосредственно перенесли на власть-выскочку то благоговение, которое перестали оказывать Ватикану; чтобы они подчинили свое частное суждение авторитету англиканской церкви, основанному на том лишь частном суждении, что они побоятся отщепиться от наставников, которые сами отщепились от папы. Легко понять негодование, какое должны были почувствовать сильные и пытливые умы, гордившиеся новоприобретенной свободой, когда учреждение, которое многими годами было моложе их самих, учреждение, которое на их глазах постепенно получало свою форму от страстей и интересов двора, начало подражать надменной манере Рима».
Особенно тяжелой и невыносимой сделалась жизнь верующих людей, когда при Карле I Стюарте (1625—1649) архиепископом кентерберийским и примасом Англии стал Лоод. Современным историкам он представляется человеком слабым, рожденным не в добрый час, но не бесчестным: скорее всего, он был просто несчастным педантом; по словам Карлейля, он напоминает «директора колледжа, для которого все в мире исчерпывается формальной стороной, правилами, и который думает, что в них именно жизнь и спасение мира». С такими застывшими, злополучными взглядами Лоод оказался неожиданно во главе не какого-нибудь колледжа, а целой нации, и ему пришлось примирять и регулировать самые запутанные, самые жгучие человеческие интересы! Он думает, что люди должны жить по старинным благопристойным регламентам; мало того – он думает, что все спасение их – в дальнейшем развитии и усовершенствовании этих регламентов. Как человек слабый и в то же время педант, он, стремясь к своей цели, делает страшные усилия, судорожно цепляется за нее, не внимая ни голосу благоразумия, ни чувству сожаления. Он должен добиться своего, – его школьники (вся английская нация!) будут повиноваться установленным правилам колледжа, это главное, и, пока он не достигнет этого, нечего думать о другом. Он – педант, родившийся не в добрый час…