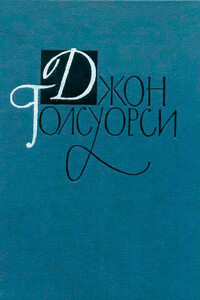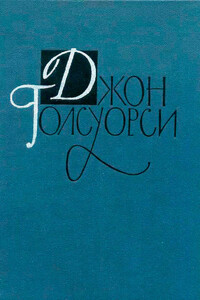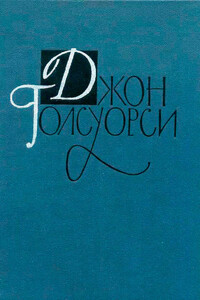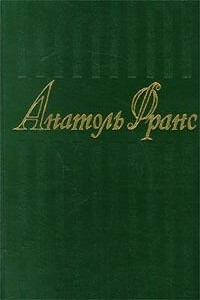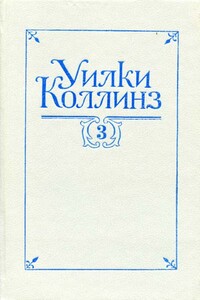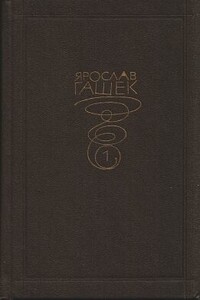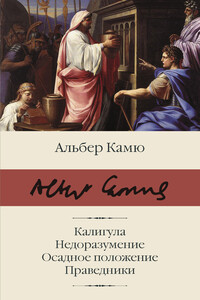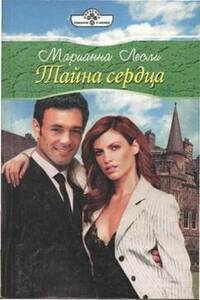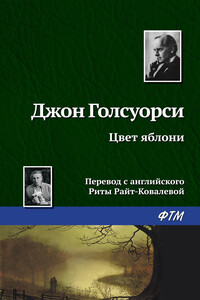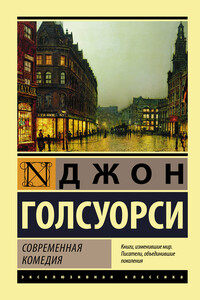В одиннадцатый том вошли сборник повестей «Человек из Девона», сборник эссе «Комментарий» и сборник рассказов «Смесь».
В повести «Человек из Девона» рассказывается о семидесятилетнем Джоне Форде, все состояние которого – небольшая ферма в Девоншире. Джон еще крепкий мужчина, долго живший в Новой Зеландии, вернувшийся на родину после смерти сына и жены, вместе с Пейшнс, внучкой и единственной оставшейся родной душой…
«Спасение Форсайта» – эти три сентябрьские недели в Зальцбурге, во время его первого путешествия по Европе, так сильно отложились в памяти, что именно они вспомнились Суизину Форсайту, находящемуся на пороге смерти…
«Молчание» – Скорриер, по заданию правления Новой Угольной компании, направлен для подготовки отчета о состоянии вновь приобретенной шахты, куда управляющим назначен его одноклассник и друг «Король» Пиппин…
В сборниках «Комментарий» и «Смесь» Голсуорси поднимает вопрос о тех, кто находился за пределами замкнутого круга Пендайсов и Форсайтов, о «другой нации»…
ЧЕЛОВЕК ИЗ ДЕВОНА
I
Муэ, 20-e июля.
…Здесь тихо, вернее, сонно: тихо на ферме никогда не бывает; к тому же море отсюда всего в четверти мили и, когда погода ветреная, шум его проникает в лощину. До Бриксема четыре мили, до Кингсуэра — пять, но и там ничего примечательного не найдешь. Ферма расположена в укрытом месте, будто в нише, выдолбленной высоко на склоне лощины; за фермой ползут вверх поля, а потом начинается широкий скат. Кажется, будто видно отсюда очень далеко, но чувство это обманчиво, в чем легко убедиться, стоит только пройти немного вперед. Пейзаж типично девонширский: холмы, ложбины, живые изгороди, тропы, то сбегающие круто вниз, то взбирающиеся вверх, словно по отвесной стене, перелески, возделанные поля и ручьи, ручьи всюду, где только сумеют пробиться; но склоны обрыва, заросшие дроком и папоротником, еще не тронуты рукой человека. Лощина выходит к песчаной бухте, где с одной стороны встает черный утес, а с другой до самого мыса тянутся розовые скалы — там находится пост береговой охраны. Сейчас, когда наступает страдная пора, все исполнено великолепия: и наливающиеся яблоки и зеленые, слишком уж зеленые, деревья. Погода стоит жаркая, безветренная; кажется, что и море и земля дремлют на солнце. Перед фермой растет с полдюжины сосен, они здесь словно пришельцы из чужой страны, а позади раскинулся фруктовый сад — буйно разросшийся, ухоженный по всем правилам, — о лучшем трудно и мечтать. Дом, длинный, белый, с трехскатной крышей, весь в бурых пятнах, точно врос в землю. Тростниковую крышу перекрывали года два назад — вот и все нововведения; говорят, что дубовой входной двери с железными скобами по меньшей мере лет триста. До потолка рукой можно достать, да и окна вполне могли бы быть побольше; и все же это прелестный уголок прошлого, овеянный запахом яблок, дыма, шиповника, копченой свинины, жимолости, а надо всем этим еще запах старины.
Владельца зовут Джон Форд; ему под семьдесят, а весу в нем семнадцать стоунов [1] — крупный человек, ноги длинные, седая борода торчком, глаза серые, выцветшие, шея короткая, лицо всегда багровое: у него астма. В обращении он очень вежлив и деспотичен. Носит костюм из пестрого твида — кроме воскресных дней, когда надевает черный, — перстень с печаткой и тяжелую золотую цепь. В нем нет ничего низкого или мелкого; подозреваю, что сердце у него доброе, хотя близко он к себе никого не подпускает. Родом он с севера, но всю жизнь провел в Новой Зеландии. Эта девонширская ферма — все его достояние теперь. В Новой Зеландии, на Северном Острове, у него была большая овцеводческая ферма, дело его процветало, дом был всегда открыт для гостей, он делал все, что отвечало его узкому представлению о широте. Беда пришла сразу, как, в точности не знаю. Кажется, его сын, потеряв состояние на торфе, не посмел после этого взглянуть отцу в глаза и пустил себе пулю в лоб; если бы вам довелось видеть Джона Форда, вы бы легко представили себе это. И жена его скончалась в тот же год. Он выплатил долги сына до единого пенни, вернулся на родину и поселился на этой ферме. Позавчера вечером он признался мне, что на свете у него осталась единственная родная душа — его внучка, которая живет здесь вместе с ним. Пейснс Войси — теперь это имя произносится Пейшнс, а по-здешнему Пэшьенс — сидит сейчас со мной на простой крытой галерее, которая выходит во фруктовый сад. Рукава у Пейшнс засучены, она чистит черную смородину для смородинного чая. Время от времени она облокачивается о стол, отправляет в рот ягоду, недовольно надувает губы и тянется за новой. У нее маленькое круглое лицо, она высокая, тонкая, щеки словно маки; волосы пушистые, темно-каштановые; глаза темно-карие, почти черные; нос слегка вздернут; губы яркие, довольно полные; и все движения у нее быстрые и мягкие. Она любит яркие цвета. Чем-то она напоминает кошку; то она — сама приветливость, то вдруг делается неприступной, как черепаха в своем панцире. Она вся порыв, но, правда, чувства свои выказывать не любит. Порою я даже сомневаюсь, есть ли они у нее вообще. Она играет на скрипке.