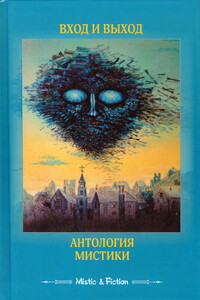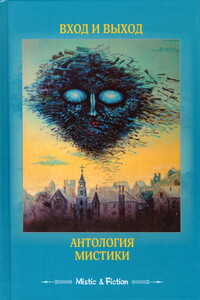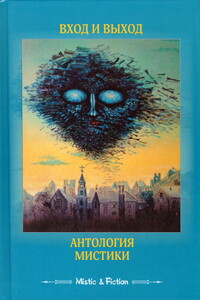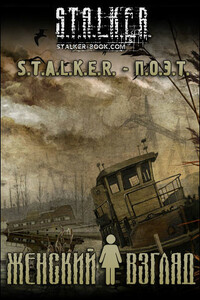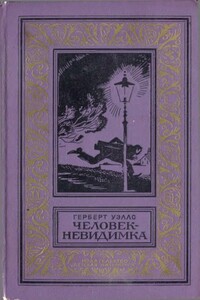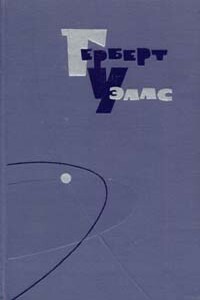I
Однажды вечером, чуть менее трех месяцев назад, Лайонел Уоллес поведал мне в задушевной беседе историю про «дверь в стене». И поскольку он вел рассказ от первого лица, я тогда не усомнился в правдивости его слов.
Он говорил так простодушно и с такой искренней убежденностью, что трудно было ему не поверить. Но на следующий день, когда я проснулся утром в своей квартире, в будничной обстановке привычной реальности, и, лежа в постели, стал перебирать в памяти подробности рассказанной Уоллесом истории, мое отношение к ней изменилось. Лишенная чарующего обаяния его неспешного, проникновенного голоса и призрачного полумрака комнаты, в котором под мягким светом затененной абажуром лампы и сам Уоллес, и все вокруг было словно окутано тайной; без торжественного убранства вечерней трапезы с ее изысканными десертами и напитками в искрящихся бокалах; без всего того, что создавало атмосферу яркого, уютного мирка, далекого от повседневности, история Уоллеса показалась мне совершенно невероятной.
— Да он все придумал! — воскликнул я. — Но как же здорово у него это получилось! Вот уж от кого я ничего такого не ожидал!
Сидя в постели и попивая мелкими глотками свой утренний чай, я поймал себя на том, что пытаюсь понять, почему накануне вечером принял нереальную выдумку за правду, и предположил, что рассказ Уоллеса был проникнут по-настоящему волнующими чувствами, которые каким-то образом выражали, проявляли, внушали (не могу подобрать нужного слова) впечатления того, кто на самом деле пережил все это, ибо в противном случае подобные ощущения невозможно было бы передать.
Впрочем, теперь необходимость в такого рода объяснениях отпала. Сомнений больше нет. Я вновь, как и когда впервые слушал эту историю, абсолютно уверен, что Уоллес всеми силами старался приоткрыть мне некую тайну. Но понимал ли он, что же в действительности произошло, или только думал, что понимает, обладал ли каким-то редким драгоценным даром или стал жертвой игры воображения, не берусь судить. Даже обстоятельства его смерти, окончательно развеявшие мои сомнения, не прояснили этого. Так что пусть читатель делает выводы сам!
Я уже не помню, какое мое случайное критическое замечание спровоцировало этого сдержанного человека на откровенность. Полагаю, он просто пытался защититься от обвинения в слабости и ненадежности, когда, в связи с одним крупным общественным движением, я упрекнул его в том, что он разочаровал меня. И тут Уоллес вдруг доверительно сказал:
— Понимаешь, я словно зациклился на собственных мыслях… ни на чем другом не могу сосредоточиться…
На какое-то время он замолчал, гипнотизируя пепел своей сигары, а потом продолжил:
— Знаю, я не оправдал ожиданий… Дело в том, что я ощущаю постоянное преследование — и речь не о привидениях или галлюцинациях, — но, Редмонд, это так странно, что и передать не могу. Меня неотступно что-то преследует, мучает, наполняет тоской, омрачает мою жизнь.
Он сделал паузу, поддавшись свойственной англичанам застенчивости, которая нередко овладевает нами, когда приходится говорить о чем-нибудь трогательном, печальном или прекрасном.
— Ты ведь окончил колледж Святого Ательстана?[1] — вдруг задал он риторический вопрос, совсем некстати, как показалось в тот момент. — Что ж…
И он снова умолк. А потом, сначала запинаясь, но постепенно обретая уверенность, поведал мне свою тайну, неотступные воспоминания о которой были связаны с неземной красотой и блаженством, пробуждавшими в его сердце ненасытное томление, отчего мирская жизнь со всеми ее прелестями стала казаться ему унылой, скучной и пустой.
Теперь, когда я владею ключом к этой тайне, мне кажется, что и прежде все было написано у него на лице. Есть у меня одна фотография, подтверждающая это особенно наглядно, ибо фотографу удалось запечатлеть до странности отрешенный взгляд Лайонела. А еще вспоминаются слова женщины, очень любившей его: «Внезапно, — рассказывала она, — он теряет всякий интерес к окружающему миру. И просто забывает о вашем существовании. Его ничего не волнует, ему ни до чего нет дела, в том числе и до вас, хотя вы находитесь рядом с ним…»
Однако подобное происходило с Уоллесом отнюдь не всегда, и, если ему удавалось задержать на чем-то свое внимание, он добивался исключительных успехов, коих в его карьере — целая россыпь. Он давно превзошел меня, став «птицей высокого полета» и заметной фигурой в обществе, о чем я мог только мечтать. Но и это — не главное. Поговаривают, что, будь он жив, непременно получил бы очень ответственный пост и скорее всего вошел бы в состав нового кабинета, а ведь ему не было еще и сорока лет. В учебе он всегда опережал меня, причем даже не прилагая особых усилий — это получалось у него как бы само собой. Почти все школьные годы мы провели вместе в колледже Святого Ательстана в Восточном Кенсингтоне. В начале обучения наши познания были примерно на одном уровне, но к моменту окончания колледжа он оставил меня далеко позади, поражая всех блестящей эрудицией и всесторонней образованностью, при том что и я добился вполне неплохих результатов. Именно в школе я впервые услышал о «двери в стене», о которой вторично Уоллес рассказал мне всего за месяц до своей смерти.