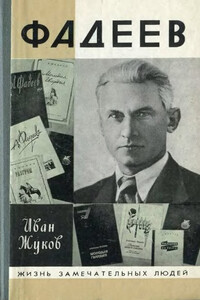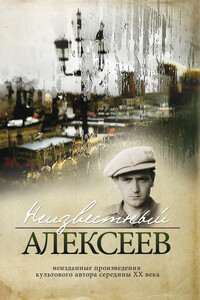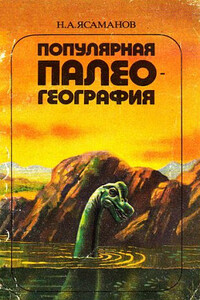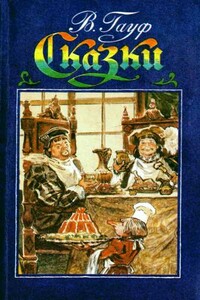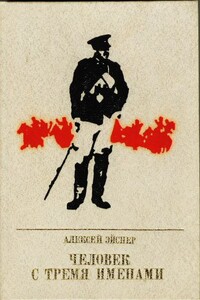До вокзала было недалеко, но я сделал знак шоферу потрепанного «рено», в поисках случайного клиента неторопливо ведущему вдоль тротуара свою вишневого цвета машину. Уж если когда-либо имелось основание потратиться на такси, то именно сейчас, тем более что с этого захудалого вокзальчика никто никуда никогда не уезжал и я даже не слишком твердо помнил, где он находится. Накануне, получая от Васи Ковалева напутствие, я выразил удивление, почему, собственно, надо отправляться не с Аустерлицкого вокзала, откуда едут все нормальные люди, а с никому не ведомого gare d’Orsay[1].
— Конспирация, понятно? — назидательно ответил Вася, но, заметив, что мне не совсем понятно, пояснил: — Народу там поменьше. И поезд подходящий. Незаметный поезд.
Остальное было в том же духе. Можно ли близким приехать проводить? Никаких провожающих. Дома прощайтесь. Незачем обращать на себя лишнее внимание. Что брать? Ничего не брать. Несессер разве или заплечный мешок. Придется ведь пешком топать. Документы, фотографии, записные книжки с адресами и телефонами тоже сдать ему, Васе, или другому кому оставить на хранение, но чтоб в карманах ни единой бумажки…
Я свято выполнил все указания и теперь чувствовал себя в прямом смысле слова облегченно. На мне была коричневая бельгийская блуза с застежкой-молнией; в нагрудном кармане ее кроме трех кредиток по сто франков лежала лишь пачка «Кэмел»[2] с изображенным на обертке одногорбым верблюдом среди светло-желтых песков пустыни; а в кармане брюк — зажигалка. Крохотный чемоданчик с трудом вмещал смену белья со споротыми фабричными марками, носки, полотенце, несколько носовых платков и туалетные принадлежности. Все это вмещалось с тем большим трудом, что укладывавшие чемоданчик заботливые руки на всякий случай втиснули в него еще бутылку хорошего французского коньяку. В общем, я путешествовал, соблюдая самое что ни на есть строжайшее инкогнито, и если бы произошла железнодорожная катастрофа, из-под обломков извлекли бы идеальный труп неизвестного…
В закрытом такси пахло почему-то как в канцелярии: клеем, чернилами и пылью. Покрутив повизгивающую рукоятку, я опустил стекло. Хотя уже кончался октябрь, улицы сияли солнцем и зеленью. Взволнованно смотрел я в последний раз на импрессионистское великолепие парижской осени. Седой шофер со старомодной гнутой трубкой в зубах, похожий в широкой, как балахон, ливрее на кучера, — должно быть, один из могикан, некогда пересевших за баранку «рено» с облучка фиакра, — сделал крутой вираж, и машина, проскочив под носом роскошного лимузина, испуганно крякнувшего селезнем, вылетела на площадь перед Домом Инвалидов. В ясном небе проплыл его собор; золоченые инкрустации купола и голый четырехконечный крест горели в предзакатных лучах. Потянулся цветущий чертеж безлюдной, как всегда, эспланады. Счетчик время от времени громко щелкал, и тогда цифра на нем подпрыгивала на франк. Шофер опять повернул направо, затем налево, и впереди показалась Сена. Выскочив на набережную и обогнув Дворец Почетного Легиона, такси причалило к длинным ступеням вокзала. На них не было ни души, только по верхней прохаживался взад и вперед полицейский, левым локтем придерживая сложенную пелерину и небрежно помахивая белой каучуковой дубинкой в правой руке. Отодвинув стеклянную сословную перегородку, отделяющую пассажира от шофера, я протянул одну из моих кредиток. Пока он отсчитывал сдачу, я закурил, потом ссыпал с бумажек, никель мелочи ему в пригоршню, хлопнул дверцей и взбежал по ступеням. Еще издали я через портал увидел Васю Ковалева. В лоснящемся темном костюме в полоску он стоял спиной ко входу и, судя по всему, заучивал наизусть выцветшее железнодорожное расписание. Около кассы, хохоча и громко переговариваясь на незнакомом языке, толпилась явно подвыпившая компания белобрысых молодых людей, точно в таких же рыжих спортивных блузах, как моя. Остановившись рядом с Васей, я в свою очередь принялся рассматривать расписание. Вася покосился на меня и возвел глаза на электрические часы.
— Точно, — сказал он вполголоса и протянул руку. — Salut![3]
Я почувствовал в ладони острые края картонного билета и, зажав его в кулаке, сунул в брючный карман.
— Поезд идет в окружную, через Лион, — заговорил Вася еще тише. — В Перпиньяне он через сутки. Там встретят. В купе с тобой будут наши ребята. Большинство из провинции, ты их не знаешь. Ответственным за группу назначен Семен Чебан, наш повар. С ним ты, верно, знаком, держи, — продолжал Вася без паузы, и в его пальцах появился запечатанный конверт, — тут сто франков.
— Не нужно. Своих хватит..
Бледное, невзирая на цыганскую смуглость, лицо Васи медленно покраснело.
— С ума сошел? — суфлерским шепотом закричал он. — Тебе кто, я, что ли, даю? Тебе партия на дорожные расходы выделила, а ты ломаешься? Индивидуалист какой выискался!..
Отбросив окурок, я поскорее потянул конверт из его пальцев.
— То-то же, — сразу же успокоился Вася. — «Мне хватит, мне хватит», — передразнил он необыкновенно противным голосом, который должен был изображать мой. — Тоже мне капиталист. Кому какое дело, хватит тебе или не хватит. Всем дается поровну. Может, я, по-твоему, должен в комитет цидульку писать, что товарищ, знаете ли, индивидуалист оказался — от партии ста франков принять не захотел?