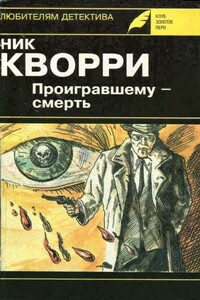Этот человек ничем не привлекал к себе внимания, ну вот совершенно ничем.
Его можно было встретить за день хоть сто раз, и ничто не отложилось бы в вашей памяти. В полном соответствии с нынешними представлениями о моде, на ногах у него были тяжелые черные ботинки, не то туристские, не то десантные, причем явно какой-то чрезвычайно дружественной натовской державы. Темные штаны, не брюки, а именно штаны, в меру заношенные, в меру грязные. Плащевая куртка была продуманно неопределенного цвета, в ней можно было успешно скрываться в прибалтийском тумане, среди голых стволов деревьев, в таджикских скалах, в привокзальной, рыночной московской толчее. На голове у него была, естественно, вязаная шапочка с невнятными заграничными буквами над правым ухом.
Такой вот человек сидел на мокрой скамейке, на платформе станции Голицыне.
Рядом, на влажном после ночного дождя асфальте, стояла довольно объемистая сумка с двумя ручками. Конечно же, она тоже была темно-серого цвета, конечно же, выглядела замызганной и затертой. Видимо, хозяину немало приходилось таскать ее по дорогам, по автобусным, троллейбусным остановкам, по электричкам и еще черт знает где.
Мятая, небритая физиономия, тусклый взгляд, замедленные, какие-то незаконченные движения... Человек этот если и надеялся на что-то в жизни, то не более чем на стакан водки с холодной сосиской у ближайшего киоска. А лет ему было около тридцати, может быть, тридцать пять, а там кто его знает. Отмыть, накормить, дать выспаться — глядишь, лет на десять и помолодеет.
Погода стояла отвратно-весенняя — низкое небо, холодный сырой ветер. Этот ветер казался клочковатым, то налетал с неожиданной стороны, то внезапно стихал, чтобы через секунду снова наброситься с непонятной озлобленностью. Намерзшиеся за зиму деревья раскачивались на этом ветру, и даже не гул шел от них, а тяжкий стон, будто и не надеялись они увидеть солнце, дождаться тепла, вытолкнуть из себя зеленые липкие листочки.
Белое запущенное, в грязных потеках здание вокзала было, видимо; когда-то нарядным и праздничным. Но теперь в нем вообще отпала всякая надобность. Первый этаж заняли всевозможные киоски — холодные, бестолковые и какие-то откровенно бандитские. Налет воровства и опасности исходил от немытых окон, от луж на полу, от нагловатых продавцов, да и от самого товара — поддельная водка с подозрительно низкой ценой, загнившие кошачьи консервы, порнокассеты с сисястыми бабами на коробках, шоколадные яйца с какими-то тварями внутри, призванными соблазнять души юные и неокрепшие.
Второй этаж здания вокзала был вообще заколочен. Судя по внешнему виду, внутри наверняка стояли треснувшие от мороза батареи, протекала крыша, гудели сквозняки сквозь выбитые стекла окон. Сто лет назад мимо проходило два-три поезда в сутки, но вокзал был украшением всей округи, а сейчас, когда электрички с металлическим визгом проносились каждые пять минут, вокзал сделался ненужным.
Часы на здании показывали пять минут десятого. Немного опоздав, подошла электричка из Москвы. С шипением раскрылись двери, и из вагонов на перрон высыпали люди — все мужчины неотличимо походили на человека, сидевшего на мокрой скамейке, все женщины вполне соответствовали мужчинам.
Двери захлопнулись, и электричка, набирая скорость, с воем ушла в серую мглу, в сторону Можайска.
Человек на скамейке пошевелился.
Прошло еще пять минут, и из той же влажной мглы медленно и бесшумно выполз состав. Что-то объявил гнусавый диктор. Его голос напоминал чье-то беспорядочное топтание по мятой жести. И хотя ни слова понять было невозможно, на платформе возникло движение, люди стали подтягиваться к дверям вагонов. Поднялся и человек в серой куртке. Он взял свою сумку, поднес ее к задним дверям последнего вагона и поставил на асфальт. Сумка, похоже, была достаточно тяжелой, и держать ее в ожидании, пока откроются двери, ему не хотелось.
— Куда электричка? — спросил парень, забравшийся прямо с путей на платформу, тоже, кстати, в черных ботинках, серой куртке и вязаной шапочке.
— На Москву.
— Скоро пойдет?
— В десять пятнадцать, — человек с сумкой отвечал немногословно, но охотно, его не тяготил разговор, он даже несколько оживился, взглянул парню в лицо.
— Дай закурить, — сказал тот.
— Не курю.
— И не пьешь?
— Пью.
— Сто грамм осилишь?
— Осилю, — какое-то подобие улыбки тронуло лицо человека, чуть раздвинулись губы, потеплели глаза.
— Сейчас зайдем, разберемся, — сказал парень и для верности похлопал себя по нагрудному карману. В нем явственно ощущалось некое вздутие, видимо, там и находилась бутылка.
— Разберемся, — кивнул человек и бросил опасливый взгляд на сумку.
— Чего везешь?
— Да так...
— Торговля?
— Вроде того.
— Кормит? — продолжал допытываться парень, но без большого интереса. Ему, похоже, просто хотелось переброситься хотя бы несколькими словами, перед тем как выпить с незнакомым человеком. — Или слабо?
— Когда как...
— Слышал такую песню... Начало не помню... Пудра, крем, одеколон, три пуховых одеяла, ленинградский патефон... Угадал? — усмехнулся парень, показав железные зубы.
— Почти.
Двери резко раздвинулись в стороны, обнажая проход в тамбур. Напирая и толкаясь, люди рванули в вагоны, хотя знали, что можно бы и не торопиться, что на начальной станции места хватит всем. Но привычно пробуждалась в каждом боязнь оказаться обманутым, обмишуленным, обойденным.