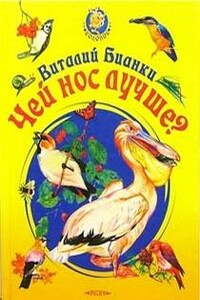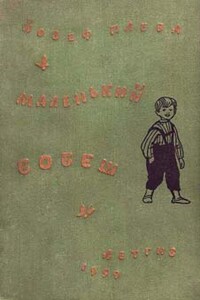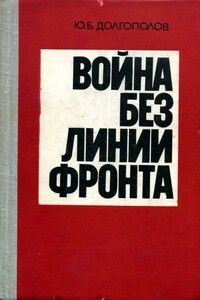О перекресток детства! В мир безбрежный,
В его простор, желанный, неизбежный,
На юг, на север, запад и восток
Идут дома… Мой санный и тележный,
Мой деревянный, с виду безмятежный,
Садово-огородный городок.
Родина — не только место, где мы родились и выросли, но и время, в которое мы родились и которое вырастило нас. Родиной для Тани Александровой, будущей художницы и сказочницы (это она сочинила сказку про домовенка Кузьку), были дом и двор на московской улице Большой Почтовой — зимой, и дача в подмосковной Малаховке — летом. Потому и друзья у нее были разные, одни зимние, другие — летние. Я, конечно, говорю о так называемой малой родине. А во времени такой малой родиной были для нее тридцатые годы, когда она росла, и годы войны, когда сложился ее характер. В этой книге вы найдете рассказы о первой половине тридцатых годов, потом пропуск и сразу же — война. Что же пропущено? Оказывается, тридцать седьмой и три следующих за ним года. Татьяна Ивановна писала свою книгу в семидесятых годах, мечтала напечатать ее, да еще и нарисовать к ней картинки, где были бы и все ее друзья, зимние и летние, и родные. Но вряд ли рассказы о том, что было с ней и с ее друзьями в те страшные годы, могли тогда быть изданы. Как, например, не написать, что в семье Тани жила ее двоюродная сестренка Мурочка, которая считалась дочерью врага народа. А Танина мама была сестрой врага народа, потому что Мурочкина мама тетя Клавдия была арестована. По себе помню, что дети очень остро переживали то время, хотя взрослые старались скрывать от них свои беды, тревоги, страхи и тяготы. Но и в тех рассказах, какие Татьяна Александрова успела написать, тридцатые годы изображены правдиво, бесстрашно, и, наверное, потому их опасались печатать при ее жизни. Набрали в одной газете для новогоднего номера рассказ про елку в Колонном зале, да так и не напечатали. Слишком уж видны были в этом рассказе бедность одних людей, мещанство других, наивность третьих и показуха четвертых. Эти рассказы начали печатать лишь во время перестройки. Но и тогда некоторые редакторы по привычке старались вычеркнуть, например, что Матрешенька, чуть ли не самая главная героиня этой книги, была няней, прислугой, а не бабушкой, как они предлагали ее называть, дальней родственницей или соседкой. Им было трудно примириться с тем, что Матрена Федотовна Царева, крестьянка из Поволжья, полуграмотная и, как тогда говорили, отсталая, определила судьбы двух советских девочек-близнецов (их так и звали Таньнаташа), что она, а не какая-нибудь организация или учреждение, привила им художественный вкус, любовь к искусству, к живому, необычайно богатому народному языку и передала им как наследство свою доброту, честность и добропорядочность. А своими сказками, песнями, пословицами, прибаутками, рассказами о деревенской жизни Матрешенька связала их с прошлым страны и народа. Впрочем, Матрешенька в этой книге — прежде всего член большой семьи. Семья — вот что главное в этих рассказах. Тут действуют и отец и мать (о них рассказано с большой любовью), и старшая сестра, и родственники, и семьи друзей и соседей. Понятия чести, совести, трудолюбия, собранности, внутренней независимости, способность сочувствовать, понимать, прощать, — все это от семьи. Она и в те трудные и грозные времена продолжала жить своей доброй, мирной и честной жизнью. В этом-то семейном кругу и побывает читатель нашей книги. А что не досказала писательница, может быть, доскажет художница. Некоторые ее работы мы сделали рисунками к этой книге.
Валентин Берестов
Нам с сестрой было тогда по пяти лет. Домашние называли нас Таня и Наташа, а все прочие — Таньнаташа, и меня и сестру, чтобы не ошибиться. «Таньнаташа выйдет?» — интересовались друзья. Мы с Наташей — близнецы, двойняшки, как тогда говорили.
Летом мы жили на даче. Потом пришел грузовик, увез в Москву нашу старшую сестру и всех остальных вместе с вещами. Мы с Наташей и мамой ехали домой на электричке. Вылезли из поезда, из детского вагона (был такой вагон специальный, в середине каждой электрички, весь в ярких картинках снаружи и внутри), подошли к краю тротуара и остановились. Сейчас на главную вокзальную площадь Москвы (она называется Комсомольской) стекаются автомобили, трамваи, троллейбусы, а людям хоть бы что. Спустились по ступеням и — в любую сторону по подземным переходам. А тогда…
С одной стороны — два с половиной вокзала, с другой — один, зато громадный. Но та, противоположная сторона, скрыта в неизвестности, как тот берег в море.
Желтые, красные трамваи, черные автомобили, лошади с телегами, люди с повозками, велосипедисты, автобусы — все это мчалось, неслось перед нами, стремительно летело по мостовой. Трамваи звенели и дребезжали, автомобили гудели, лошади ржали и цокали копытами, выбивая из булыжников огонь, возчики кричали, водители трамваев тоже кричали, высовываясь из окна и непрерывно дергая веревку звонка.
Море шума, гама, криков, грохота, гула, а трамвайные звонки, как всплески волн. Тогда не запрещалось гудеть автомобилям и звенеть трамваям: гуди и звени сколько хочешь, что они и делали. Возможно, не запрещали из-за лошадей. По улицам в ту пору бегало много лошадей с повозками, с телегами и с жеребятами. Попробуй запрети им ржать. А трамваи и автомобили чем хуже? Вот они и звенели и гудели, кто кого перегудит или перезвонит. Пыль над площадью — тучей!