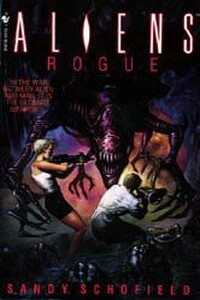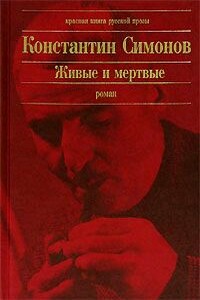Мне в этот день была обещана
Поездка в черные кварталы,
Прыжок сквозь город, через трещину,
Что никогда не зарастала,
Прикрыта, но не зарубцована,
Ни повестями сердобольными,
Ни честной кровью Джона Броуна,
Ни Бичер-Стоу, ни Линкольнами.
Мы жили в той большой гостинице
(И это важно для рассказа),
Куда не каждый сразу кинется
И каждого не примут сразу,
Где ежедневно на рекламе,
От типографской краски влажной,
Отмечен номерами каждый,
Кто осчастливлен номерами;
Конечно — только знаменитый,
А знаменитых тут — засилие:
Два короля из недобитых,
Три президента из Бразилии,
Пять из подшефных стран помельче
И уж, конечно, мистер Черчилль.
И в этот самый дом-святилище,
Что нас в себя, скривясь, пустил еще,
Чтобы в Гарлем везти меня,
За мною среди бела дня
Должна
заехать
негритянка.
Я предложил: не будет лучше ли
Спуститься — ей и нам короче.
Но мой бывалый переводчик
Отрезал — что ни в коем случае,
Что это может вызвать вздорную,
А впрочем — здесь вполне обычную
Мысль, что считаю неприличным я,
Чтоб в номер мой входила черная.
— Но я ж советский! — Что ж, тем более,
Она поднимется намеренно,
Чтоб в вас, в советском, всею болью
Души и сердца быть уверенной.
И я послушно час сидел еще,
Когда явилась провожатая,
Немолодая, чуть седеющая,
Спокойная, с губами сжатыми.
Там у себя, — учитель в школе,
Здесь — и швейцар в дверях
не сдвинется,
Здесь — черная, лишь силой воли
Прошедшая сквозь строй гостиницы.
Лифт занят был одними нами.
Чтоб с нами сократить общение,
Лифтер летел, от возмущения
Минуя цифры с этажами.
Обычно шумен, но не весел,
Был вестибюль окутан дымом
И ждал кого-то в сотнях кресел,
Не замечая шедших мимо.
Обычно.
Но на этот раз
Весь вестибюль глазел на нас.
Глазел на нас, вывертывая головы,
Глазел, сигар до рта не дотащив,
Глазел, как вдруг на улице на голого,
Как на возникший перед носом взрыв.
Мы двое были белы цветом кожи,
А женщина была черна,
И все же с нами цветом схожа
Среди всех них
была одна она.
Мы шли втроем навстречу глаз свинцу,
Шли, взявшись под руки, через
расстрел их,
Шли трое красных через сотни белых,
Шли, как пощечина по их лицу.
Я шкурой знал, когда сквозь строй
прошел там,
Знал кожей сжатых кулаков своих:
Мир неделим на черных, смуглых,
желтых,
А лишь на красных — нас,
и белых — их.
На белых — тех, что, если приглядеться,
Их вид на всех материках знаком,
На белых — тех, как мы их помним
с детства,
В том самом смысле. Больше ни
в каком.
На белых, тех, что в Африке ль,
в Европе,
Их красные — в пороховом дыму,
Как мы — своих, — прорвут на Перекопе
И сбросят в море, с берега, в Крыму!