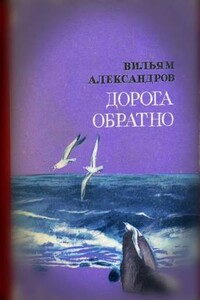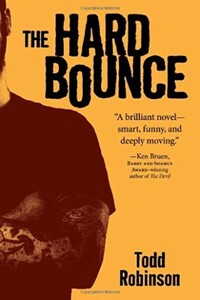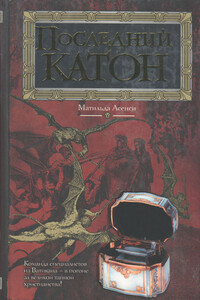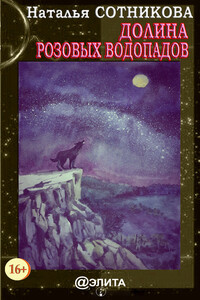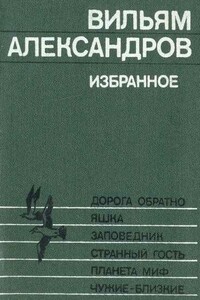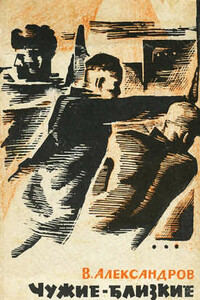В этот приморский город, где прошло его детство, Лукьянов приехал вечерним поездом из Москвы.
Был конец сентября, на привокзальной площади еще не зажигали огней, и расцвеченные желтым и лиловым деревья казались фантастическими на фоне догорающего неба.
То ли эти каштаны, знакомые с детства, то ли воздух — особый, пьянящий, свойственный только этому городу, но что-то прихлынуло вдруг, сдавило горло.
На площади шла обычная вокзальная суета: разгоняя опавшую листву, подкатывали такси: извлекая из них неподъемные чемоданы, шли к перрону люди, почему-то в теплых пальто и шапках: и тут же, обгоняя их, неслись другие — в легких платьицах, в ярких безрукавках, — с цветами в руках, звенели трамваи, разворачиваясь на кольце: кто-то целовался, смеясь и радуясь, кто-то плакал перед расставанием.
А Лукьянов стоял посреди всего этого шума и гама и видел только кусок догорающего малиново-сумеречного неба, и в ушах его тупыми толчками отдавалось биение собственного сердца.
Он не был здесь семнадцать лет.
Семнадцать лет… Целая жизнь лежала сейчас между ними, между ним и его родным городом.
Сколько раз по ночам, во сне, он бродил но этим улицам, вдыхал запах цветущей акации, сбегал к морю по знакомой тропинке на шестнадцатой станции и плыл, плыл навстречу ласковым длинным волнам… А потом просыпался с тоскливой, поющей болью в груди и долго лежал, вглядываясь назад, в прошлое, в свое детство.
Сколько раз он говорил себе надо поехать, надо увидеть все это вновь, но все откладывал почему-то, все время пути уводили его отсюда — во все концы света, только не сюда.
Да, конечно, он был занят, много работал, и все не подворачивалось случая. Но разве надо было ждать случая, разве нельзя было за эти годы сесть в самолет и прилететь сюда за пять часов из Средней Азии, где он жил, или приплыть за сутки из Ялты, из Сочи, где несколько раз проводил он свой отпуск? Значит, не в этом дело. Не в этом дело. Значит, боялся, что вновь прихлынет старая боль, и снова нечем станет дышать, и жить будет нечем…
И вот сейчас, если б не эта телеграмма.
Пришла телеграмма, такая обыкновенная на вид, но, она была оттуда, из его детства, из юности, она не ре летела через два десятилетия, перечеркнула их электрической вспышкой, перемещала вдруг все, и вот он стоит па вокзале, беззащитный, оглушённый, словно не было этих семнадцати лет, словно только вчера все это случилось..
Она жила в доме напротив.
У них была большая квартира с двумя балконами, — один выходил во двор, а другой, поменьше, на улицу.
И когда на этом балконе появлялась худенькая девочка с доверчивыми голубыми глазами на нежном милом личике, Димка Лукьянов, как вкопанный, застревал у окна. Их окно выходило на ту же улицу, вернее переулок, но жили они с матерью в небольшой комнате, в общей квартире, на первом этаже.
Переехали они сюда недавно. До этого жили за городом, на шестнадцатой станции, при санатории, где мать работала санитаркой. В тридцать девятом погиб на финской Димкин отец, и матери сразу дали эту комнату — по тем временам большое счастье.
Мать, хоть и тяжело переживала гибель отца, но квартире была очень рада. Комната оказалась небольшая зато светлая, сухая, приветливая какая-то. Мать все ходила по ней, трогала шершавыми ладонями золотистые обои на стенав, гладила покрашенные белой масляной краской двери, рамы и все приговаривала: «Видать, добрые люди тут Жили, как славно все сделали! Вот уж посчастливило нам с тобой, Сынок, теперь и помереть спокойно могу, знаю — без крыши над головой не останешься!»
И еще радовало ее, что есть кухня большая. Правда, общая — пять столов на ней стояло, на каждом примус или керосинка, а то и по два примуса. Как начнут жужжать все сразу — будто завод какой-то. И еще радовало мать, туалетная есть в доме, зимой на улицу ходить не надо.
А Димке здесь не нравилось. Странные у них были соседи. Прямо по коридору жили три сестры, немки, по фамилии Штольц. Рассказывали, что раньше они владели частной гимназией, и старшая из них раз в году стояла на мраморной лестнице у парадного входа и принимала деньги в белых перчатках до локтей.
Когда Димка впервые увидел одну из них — дряхлую косматую старуху, похожую на ведьму, он в ужасе кинулся в комнату и сидел там, пока старуха не прошлепала к себе.
В ту ночь мать дежурила, он спал один, и всю ночь ему мерещилась эта косматая страшная старуха, она стояла на пороге, протягивала к нему дрожащие руки в белых до локтей перчатках и требовала деньги.
А в комнате налево жил какой-то тип со странной фамилией Зеленый. Но был он почему-то всегда красный и от него вечно разило водкой. Были еще соседи, но их Димка пока не разглядел. Друзья все остались там, на шестнадцатой станции, и Димка с тоской вспоминал приволье тех мест, заросли вокруг санатория, где был у них свой тайник, веселые игры в чапаевцев, обрыв к морю и своя тропинка, по которой утрами сбегали они к ласковой, сверкающей на солнце черноморской воде.
В школе, куда он теперь ходил, друзей пока еще тоже не было.
И единственной отрадой во всем этом была голубоглазая девчушка в доме напротив. Она выходила но утрам на балкон с маленькой красной лейкой в руках и поливала цветы, которые росли у них в плоских деревянных ящиках. Делала она это старательно, с любовью расправляла лепестки, потом уходила, набирала воду и снова появлялась.