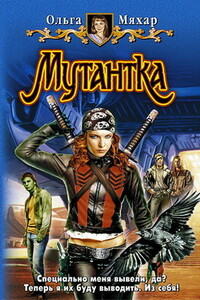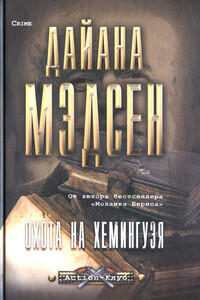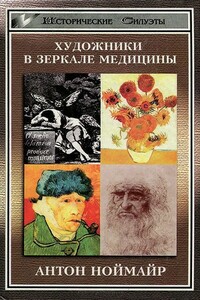"Донской казак" Юрий Авербах
20.03.2009. Беседовал Алексей Романовский
Его имя в шахматном мире — легенда. И не только из-за титулов. Юрий Львович Авербах принадлежит к числу немногих сильных практиков, которые сумели остаться в шахматах на всю жизнь, достигнув значительных высот на литературном, журналистском и судейском поприщах.
![]()
— Юрий Львович, не могли бы вы рассказать о так называемом «донском казаке Авербахе»?
— Эта история случилась в 1958 году. В Югославии, на берегу Адриатического моря, проходил межзональный шахматный турнир. Чтобы внести какое-то разнообразие в нашу культурную программу, нам решили показать местную достопримечательность — отвезли на конный завод. Как-то, когда я еще был студентом, нас посылали в колхоз, и там пару раз я садился на лошадь. Поэтому я не упустил возможности продемонстрировать свои навыки держаться в седле нашим дамам. А на следующий день в сербской газете вышла статья с моей фотографией на целую полосу, а внизу подпись: «Донской казак Юрий Авербах». Такой вот был эпизод.
— Вы родились в Калуге, а как оказались в Москве?
— По материнской линии я коренной калужанин. У нас там был собственный дом, дед мой служил в казенной палате и был чиновником невысокого порядка. А потом туда приехал мой отец, который был помощником лесничего. Весь лес там принадлежал князю Голицыну, но после революции его национализировали. В 1925 году, когда мне было всего три года, мои родители переехали из Калуги в Москву, потому что моя мама хотела поступить в вуз. Я жил в Москве, но каждое лето исправно ездил к деду в Калугу. Там я играл в турнире на первенство города, участвовал в разнообразных мероприятиях, хорошо знал калужских шахматистов и с тех пор являюсь почетным гражданином города Калуги.
— Ваш отец, насколько мне известно, пострадал от репрессий.
— Он пострадал относительно. Отец работал в тресте «Экспорт-лес», который заготавливал древесину. Когда в середине 30-х годов начались репрессии, а лес экспортировали заграницу, там арестовали все руководство. У отца была довольно скромная должность — он подбирал деревья на вырубку, но не на дрова, а на целлюлозу. Получилось так, что его забрали не в Москве, а в Ивановской области. В то время как раз проходила смена руководства НКВД — Ежова заменили Берией. И отца фактически не успели строго осудить — он отсидел всего год. Кстати, к его еврейскому происхождению этот арест никакого отношения не имел.
— Вы можете вспомнить вашу первую крупную победу?
— Первая крупная победа была на чемпионате СССР среди школьников до 16-ти лет. Это был 1938-й год. Причем, я думаю, из-за того, что отца арестовали не в Москве — отец все время бывал в командировках — меня и допустили до соревнований. Так что, опять мне повезло. Я вообще не собирался быть шахматистом, много занимался спортом — играл в волейбол, причем довольно прилично, даже принимал участие в соревнованиях на первенство Москвы по волейболу.
— Куда вы поступили после школы?
— Я окончил школу с отличием. И так случилось, что я опоздал на мандатную комиссию в авиационный институт, в который изначально собирался поступать. У меня оставался всего один день для того, чтобы принять решение. Я купил справочник и наметил семь вузов, и я долго думал, куда идти. Вышел на улицу и встретил друга, который как раз учился в МВТУ имени Баумана. И он говорит мне: «Нечего думать, пошли со мной!» Так я оказался там и стал инженером.
— Как в дальнейшем сложилась ваша судьба?
— После окончания института пять лет работал по специальности, занимался газовыми турбинами и одновременно играл в шахматы. Однажды я понял, что сижу на двух стульях. Я уже играл в чемпионатах Москвы и СССР. Мне повезло с моим начальником отдела — профессором Ушаковым. Мы с ним как-то разговаривали и он спросил, как у меня сочетается работа младшим научным сотрудником с шахматами, и предложил года на два оставить институт ради них. А там: «Добьетесь большого успеха в шахматах — ваше дело. Не добьетесь – возьму назад!» Такое вот было предложение. Я не стал отказываться — этих двух лет хватило, чтобы я стал гроссмейстером и окончательно определил свою судьбу. И двенадцать лет я был профессиональным шахматистом.
— А что помешало вам стать чемпионом мира?
— Для этого, в первую очередь, нужен чемпионский характер. Чемпион должен быть таким человеком, который за победу готов отдать все. Он должен быть честолюбивым. Я же отношу себя к «исследователям» в мире шахмат — мне хочется добраться до сути. И это во многом определило мое дальнейшее будущее. Я понял, что после сорока больших успехов в шахматах я не добьюсь, и стал тренером. Я тренировал Бориса Спасского, когда он стал чемпионом мира среди юношей, Михаила Таля, Тиграна Петросяна, Василия Смыслова, был спарринг-партнером Михаила Ботвинника.
— Вы можете рассказать про Бобби Фишера? Он был очень неоднозначной фигурой в мире шахмат. Каким вы его помните?
— Я его хорошо знал. Более того, у меня были хорошие отношения с исполнительным директором американской шахматной ассоциации Эдом Эдмунсоном, который тогда опекал Фишера. Мы с Фишером познакомились в 1958 году в Портороже в Югославии — вместе играли в межзональном турнире. Бобби Фишер вырос в Бруклине — не самом благополучном районе Нью-Йорка. Его мать придерживалась левых взглядов. Она написала письмо Никите Хрущеву, чтобы её сына пригласили на Фестиваль молодёжи и студентов 1957 года. Но когда приглашение было получено, фестиваль уже закончился. Тогда Фишера пригласили в Москву на следующий год. Как шахматист, он произвел на меня грандиозное впечатление. За все время турнира он никуда не выходил — сидел у себя в гостинице и занимался шахматами. Хотя ему было всего 15 лет, он уже тогда был взрослым чемпионом. Понимаете, это был очень талантливый и одновременно неадекватный человек. Он хотел, чтобы весь мир жил исключительно по его законам. Сами понимаете, с такими взглядами на жизнь у него была масса проблем. Он решил, что должен играть с чемпионом мира Михаилом Ботвинником блиц. А Ботвинник блиц не играл. Фишеру предложили других мастеров, которых он обыгрывал, пытались показать Кремль, провести по галереям, но Фишер сказал, что его все это не интересует, и продолжал настаивать на встрече с Ботвинником. В результате он нахамил переводчице, которая его сопровождала, она написала рапорт, и Боба Фишера отправили домой. С тех пор он затаил на русских обиду.