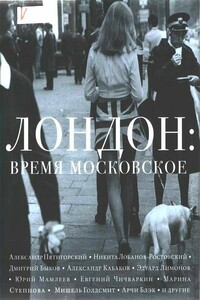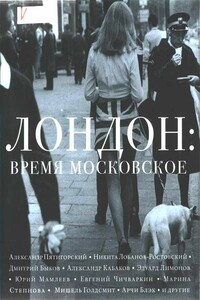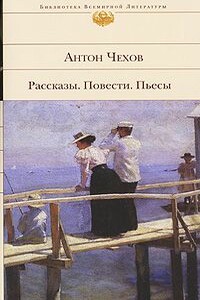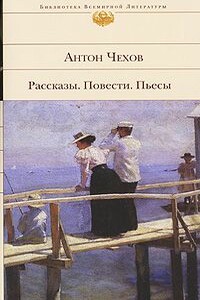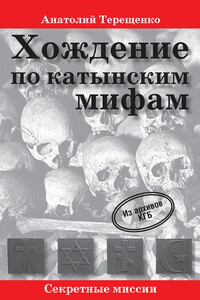«Chi son’io tu non saprai»
(Кто я такой, ты никогда не узнаешь).
Да Понте[1] / Моцарт
Дон Жуан всегда искал благодарного слушателя. В один прекрасный день он нашел его во мне. Свою историю он рассказал мне не от первого, а от третьего лица. Так, во всяком случае, приходит мне на ум сегодня.
В ту пору я кашеварил какое-то время только для себя одного в своем пристанище вблизи развалин Port-Royal-des-Champs[2] — знаменитейшего в семнадцатом веке, но пользовавшегося дурной славой женского монастыря во Франции. Несколько гостевых комнат монастыря были частью помещения, отданного мне тогда на откуп. Все зимние месяцы и раннюю весну я проводил за несложными занятиями, как то: готовил для себя пищу, хлопотал по дому, работал в саду, главным же образом читал и поглядывал время от времени в старинное крошечное оконце моей маленькой гостиницы в бывшем доме привратника монастыря Пор-Рояль-в-Полях.
Я давно уже жил без соседей. И дело тут было не во мне. Нет ничего лучше, как иметь соседей и самому быть соседом. Но идея жить в соседстве дала осечку, а может, просто вышла из моды? Что же касается меня, то я не преуспел в современной игре «спрос — предложение». Быть хозяином крова и поваром для своих постояльцев — таково было мое предложение — не находило больше спроса. Я оказался несостоятельным бизнесменом. При этом с незапамятных времен я твердо верил, что бизнес сближает людей, верил в это, как ни во что другое, я и до сих пор верю в занимательную игру «купля — продажа» как движущую силу прогресса и общества.
В мае я в общем и целом забросил свои занятия садоводством и только время от времени посматривал, как растут или погибают посаженные или посеянные мною овощные культуры. Подобным же образом я обошелся и с фруктовыми деревьями, выращенными мною из саженцев с десяток лет тому назад, когда я только вступил во владение домом привратника и превратил его в гостиницу у дороги. С утра до вечера я подолгу бродил по саду, расположенному в речной долине, прорезавшей плато Иль-де-Франс[3], под яблонями, грушами и ореховыми деревьями с книгой в руках, не ударяя палец о палец. И даже приготовлением пищи для себя занимался в эти весенние дни исключительно только по привычке. Запущенный сад, казалось, отдыхал, но то новое, что принесло потом свои плоды, было уже на подходе.
Чтение и то доставляло мне все меньше удовольствия. Утром того дня, когда на мою голову неизвестно откуда свалился Дон Жуан, я перво-наперво намеревался покончить с книгами. Правда, я как раз углубился в чтение двух явно рассчитанных на века литературных памятников, и не только одного семнадцатого столетия или одной французской литературы, а именно опуса Жана Расина в защиту монахинь Пор-Рояля и обвинительных речей Блеза Паскаля[4] в адрес их противников-иезуитов, но тем не менее мгновенно решил завязать одним махом и с чтением, по крайней мере на какое-то время. Достаточно, что ли, всего начитался? Ну, знаете, более дикой мысли, посетившей меня этим утром, еще не было: «Хватит читать вообще!» И это при том-то, что всю свою жизнь я был прилежным читателем. Поваром и читателем. Ах, каким поваром! Ах, каким читателем! Вот тут-то я и понял, почему вороны с некоторых пор каркают с такой ненавистью на всю округу: их распирает гнев от состояния окружающего мира. А может, только моего внутреннего?
Появление Дон Жуана тем майским днем заменило мне чтение пополудни. И это было нечто большее, чем простая замена. Хотя бы уже потому, что речь шла о Дон Жуане, а не об этих канувших в историю изощренных и каверзных иезуитах-наставниках, старцах семнадцатого века. И не о Люсьене Левене и Раскольникове или, скажем, мингере Пеперкорне, некоем сеньоре Буэндиа или комиссаре Мегрэ, нет, вместо них явился тот, кого я ощутил как глоток свежего воздуха, тот, кто принес мне освобождение. Одновременно появление Дон Жуана буквально даровало мне внутреннюю широту и простор, какие только могло еще уготовить столь волнительное (и внезапно прерванное) чтение духовных текстов. С тем же успехом это мог бы еще быть сэр Гавейн, Ланселот или Фейрефиц, этот под стать сорокам черно-белый сводный брат Парцифаля, — нет, «пегий», пожалуй, все же нет! А может, князь Мышкин? Но пришел Дон Жуан. И в нем было, между прочим, немало от тех только что названных книжных героев и средневековых рыцарей-бродяг.
Пришел ли он? Или появился? Скорее опрометью ворвался, свалился на меня, перекувыркнувшись в сад через стену, служившую также наружной стороной той части моего пристанища, что шла вдоль улицы. То был воистину прекрасный день. После мутно-серого утра, столь частого в Иль-де-Франс, небо прояснилось и, казалось, никак не могло на этом успокоиться, оно прояснялось все больше и больше, не ведая устали. Послеобеденная тишина была, как всегда, обманчивой. Но в данный момент, тем не менее, она царила в природе и определяла обстановку. Еще задолго до того, как Дон Жуан попал в поле моего зрения, слышно было его тяжелое дыхание, человек задыхался. Ребенком я наблюдал однажды в провинции, как убегал от жандармов крестьянский парень. Он пулей промчался мимо меня по склону вверх, хотя от его преследователей были пока всего лишь слышны крики «Стой!». Я и сегодня еще вижу перед собой лицо преследуемого, красное, налившееся, и его тело, словно скукожившееся от страха, с кажущимися от этого еще длиннее руками, болтающимися вдоль туловища. Но гораздо живее звуки, врезавшиеся мне в память о нем. Это было больше, чем тяжелое дыхание, человек не просто задыхался, это было нечто особенное — сиплый свист, вырывавшийся из его легких. При этом дело было вовсе не в легких — левом или правом. Свистящий шум, который все еще звучит в моих ушах, отлетал эхом от пробегавшего человека, отскакивал от его тела, исходя не из нутра, а срываясь с поверхности, с внешней оболочки: его испускала каждая клеточка кожи, каждая ее пора. И казалось, даже источником звука был не один определенный человек, а великое множество людей, численно превосходящих не только реально приближавшихся орущих преследователей, но и заглушивших тихую деревенскую природу вокруг. Этот свист и вибрирование, отлетавшие от преследуемого, словно последняя нота в его жизни, таили в себе нечто сверхмощное для меня, своего рода первооснову насилия.