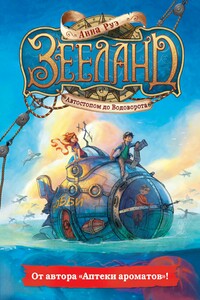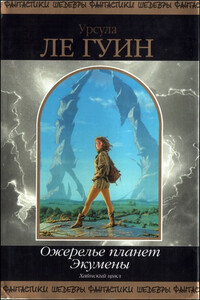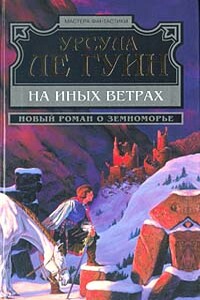Солнечный свет, как всегда в октябре, желтыми полосами ложился поперек улицы; сотни сухих золотистых полудней шуршали под ногами. Лишь почтенный возраст спасал сикоморы от излишней назойливости. Зато в течение нескольких кварталов ее буквально преследовали фамильярно-дружески настроенные тени знакомых кирпичных стен и балконов. Фонтаны разговаривали с ней так, словно она никуда и не уезжала. Ее не было здесь восемь лет, а этот дурацкий город даже не заметил ее отсутствия; залитый солнечным светом, наполненный шумом множества фонтанов, он обступал ее со всех сторон, точно стены родного дома. Смущенная и обиженная, она прошла мимо дома номер 18 по улице Рейн, даже не взглянув ни на дверь в парадном, ни на ограду сада, хотя каким-то образом — не глазами — все-таки заметила, что и дверь, и калитка в сад заперты. После этого город постепенно отступился и оставил ее наконец в покое. Через один-два квартала он ее уже практически не узнавал. Фонтаны теперь разговаривали с кем-то другим. Теперь ее охватило иное смущение: она не узнавала ни перекрестков, ни подъездов домов, ни окон, ни витрин магазинов и, стыдясь, вынуждена была обращаться с вопросами к уличным указателям и табличкам с номерами домов, а когда отыскала нужный дом и в нем оказалось несколько подъездов, то пришлось войти и сперва спросить у открытых дверей, туда ли она попала. Неубранные постели, семейные ссоры, не до конца застегнутые платья отослали ее наверх, на четвертый этаж, но там на ее стук ответила лишь изящная надпись на дверной табличке: Ф.Л.ПАНИН. Она заглянула внутрь. Комната в мансарде была забита тяжелыми диванами и столами и имела вид разоренного жилища; комната казалась абсолютно чужой, залитой солнцем, душной и беззащитной.
Напротив она увидела занавешенный дверной проем и спросила:
— Есть кто-нибудь дома? — Из-за занавески ей ответил полусонный голос:
— Подождите минутку, пожалуйста.
Она подождала.
И он появился оттуда собственной персоной и прошел к ней через комнату, в точности такой, как прежде, ничуть не изменившийся за прошедшие восемь лет, как не изменились и камни на городской мостовой, и солнечный свет, пронизывающий этот город. Итак, ее ужасные сны стали явью: в этих снах он и она останавливались в придорожных гостиницах, направляясь к высоким серым горам, а потом не могли отыскать комнаты друг друга в холодных коридорах; а в Красное зимними вечерами точные копии этого человека его походкой переходили на другую сторону улицы, озирались по сторонам и поворачивали голову в точности как он. Но теперь это был он сам.
— Извините, я спал.
— Я Мария.
Он так и застыл. Пиджак висел на нем как на вешалке. Она заметила, что и волосы у него приобрели какой-то сероватый оттенок… да, он поседел. Он стоял перед ней худой, седой, сильно изменившийся. Она бы, наверное, не узнала его, если б встретила случайно на улице. Они пожали друг другу руки.
— Садись, Мария, — сказал он. Оба уселись в огромные обшарпанные кресла. На голом полу меж ними лежала полоса того неповторимо ясного солнечного света, какой бывает осенью только в Айзнаре. — Обычно я сплю в чулане, но Панины разрешают мне пользоваться этой комнатой, когда их нет дома. Они оба целыми днями на работе, в ГПР.
— Ты ведь тоже там работаешь… в вечернюю смену, да? Я уже собиралась оставить тебе записку.
— Да, обычно в это время я уже ухожу на работу. Но сейчас взял несколько дней отгулов. У меня грипп.
Ей следовало бы знать, что сам он никаких вопросов задавать не будет. Он и сам не любил отвечать на вопросы, и редко задавал их другим. Ему мешало чувство собственного достоинства, настолько глубокое и всеобъемлющее, что распространялось и на всех остальных мужчин и женщин, которых он изначально воспринимал как людей достойных доверия и разумных и избавлял от всяких вопросов. Как только он умудрился выжить в этом мире, в этой публичной исповедальне?
— У меня двухнедельный отпуск, — сказала она. — Я работаю в Красное, преподаю. В начальной школе.
Его улыбка на лице совершенно незнакомого человека смущала ее.
— С Дживаном я развелась.
Он смотрел прямо в солнечное пятно на полу. Она ответила и на следующий вопрос, которого он не задал:
— Четыре года назад.
Потом, от растерянности и желания как-то защититься, вытащила сигареты. Но прежде чем отгородиться от него пеленой дыма, собрала все свое мужество и протянула пачку ему прямо над полосой солнечного света:
— Хочешь?
— Да, спасибо. — Он взял сигарету, осмотрел, понюхал и с довольным видом прикурил от зажженной ею спички. Затянувшись, он тут же страшно закашлялся; кашель был изнуряющий, глубокий, похожий на взрывы или залпы тяжелой артиллерии; таких громких звуков она от него никогда в жизни не слышала. Несмотря на кашель, он буквально не сводил с сигареты глаз, а немного отдышавшись, тут же снова затянулся, не вдыхая, однако, дым.
— Не стоит тебе курить, — беспомощно пролепетала она.
— Да я давно уже не курю, — сказал он. Капли пота выступили у него на лбу, даже повисли на волосах, которые, как она теперь разглядела, были лишь отчасти тронуты сединой. Вскоре он аккуратно затушил сигарету и сунул бычок в нагрудный карман рубашки. Все это он проделал легко и непринужденно, хотя потом посмотрел на нее виноватыми глазами. Она не была с ним в те годы, когда он научился экономить недокуренные бычки, так что его действия могли ее смутить; и она тут же постаралась вести себя как ни в чем не бывало, зная, как он не любит смущать людей.