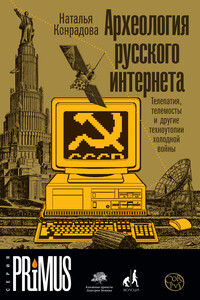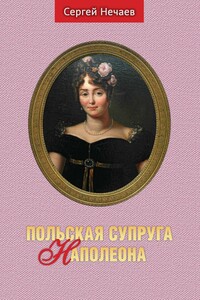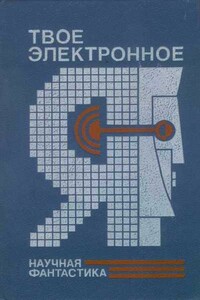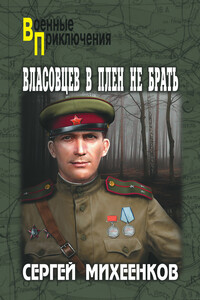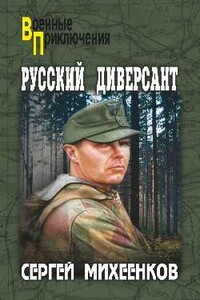Очнулся он среди тишины.
Для того чтобы хотя бы понять без посторонней помощи, где он, Воронцов попытался вспомнить, что же с ним произошло. Что-то же произошло, что кругом такая тишина, от которой, если сосредоточиться на ней одной, мурашки бегают по спине. Какая всё же нужная штука – память. Оказывается, она не просто помогает человеку обрести то, что он имел. Боевых товарищей, родню, кого-то ещё… Необходимые вещи. Хотя бы даже одежду. Сейчас на нём ничего не было, кроме бязевой рубахи и подштанников.
По белому потолку, по серому, выбеленному извёсткой электрическому проводу, ползла муха. Мухи в окопах всегда были бедствием. Особенно, когда недалеко, перед траншеями или возле кольев заграждения лежали неубранные трупы. Мухи прилетали с нейтральной полосы. Во всяком случае, им, обитателям траншеи, так всегда казалось. Иногда они облепляли лица спящих, залезали в рот и в ноздри. По живым они ползали, как по трупам. Однажды Воронцов застал спящим часового. Тот сидел на дне окопа, на еловой подстилке, обхватив обеими руками винтовку с примкнутым штыком, а по его лицу и рукам ползали мухи. Шустрые, лоснящиеся сытой фиолетово-зелёной окалиной. Воронцов, испугавшись, что часовой убит, наклонился к нему и, прежде чем встряхнуть его, согнал с лица мух. И тут же понял, что боец жив, что он просто спит. Спит на посту. Он высвободил из его рук винтовку, перехватил её и нацелил в грудь. И тут почувствовал, что на него смотрят. «Если кто уснёт, будить не стану. Так и знайте», – и, подцепив край шинели, с силой проткнул толстую материю, пригвоздив её к стенке окопа. Штык вошёл в сырой песок легко и глубоко, по самую мушку.
Боец тут же проснулся. Но ни встать, ни вытащить винтовку он не мог. Так и барахтался в своей ячейке, испуганно озираясь, пока кто-то из штрафников не выдернул штык из стенки окопа.
Потолок… Если над ним потолок, то он, по всей видимости, находится в землянке. Но откуда в землянке электрический провод и лампочка? В землянках под потолком в лучшем случае висели тусклые карбидки. А тут настоящая электрическая лампочка и настоящий электрический провод на фарфоровых изоляторах.
Всё-таки он кое-что помнит.
Скрипнула рядом кровать, напряглась панцирная сетка, и чей-то голос удивлённо спросил:
– Сосед! Ну что, братишка, явился? С возвращеньицем!
Воронцов повернул голову и увидел бритого наголо человека в больничной пижаме. Сосед. Примерно его лет. На подбородке свежий, только-только затянувшийся розовой кожей шрам. Нога в гипсе. Гипс замызганный, со стажем, исписанный химическим карандашом. Сосед ловко перекинул свой разрисованный саркофаг с кровати на пол, подхватил костыли и подошёл к Воронцову.
– Здорово ж тебя, лейтенант, дерябнуло! Мы уже решили, не выкарабкаешься. А тебе ещё, видать, повоевать охота. – И лысый, обеими руками держа гипсовую ногу, засмеялся.
Ни в какой он не в траншее, и даже не в землянке. Вот откуда здесь электропроводка и этот запах. Запах не лучше окопного. Но всё же другой, явно тыловой.
Воронцов осматривал своё тело. Ноги вроде целы, торчат под простынёй обе. Рука одна шевелится. Другая в гипсе, подвязана на растяжке.
– У меня всё цело? – разлепил губы Воронцов.
– Да вроде всё. – Сосед наклонился над ним, заглянул в глаза. – Ты себя-то помнишь?
– Да вроде не забыл.
– Зовут как?
– Александром.
– Меня Гришкой. А родом ты откуда?
– Смоленский.
– Не земляк, – разочарованно вздохнул Гришка и погладил свою блестящую макушку. – Я с Волги, из Саратова. Ну что, выспался? Три дня пролежал. Видать, мать за тебя молится. Или жена. Женат?
– Нет пока.
– Значит, мать. Материнская молитва, говорят, крепче. Хочешь чего-нибудь?
– Нет.
– А мы тебя будить пробовали. Нет, не разбудили. После такой операции нельзя спать. Если уснёшь… Организм прекращает сопротивление. Так что мы думали, что ты уже всё, смирился, не проснёшься. А у тебя сердце крепкое. – Гришка улыбался, заглядывал Воронцову в глаза, будто всё ещё не верил, что он действительно проснулся, а не бредит. – Если что надо, скажи. Что-то ты, Саша, вспотел. Лоб весь мокрый. Жар у тебя. Пойду-ка я за сестричкой схожу.
Гришка застучал костылями к двери.
Воронцов осмотрелся. Фронтовая привычка: оказавшись в незнакомой местности, первым делом необходимо изучить местность и прикинуть свои шансы. Палата небольшая, примерно четыре на четыре, четыре кровати по углам и четыре посредине. Но заняты всего три. На одной неподвижно лежит весь в гипсе и бинтах пожилой дядька. Даже лицо почти наглухо затянуто бинтами, только усы торчат. Усы пышные, с сединой. Они выдают возраст. Раненому лет сорок, не меньше. На угловой кровати, что возле двустворчатой двери, одна половина которой приоткрыта, так что из коридора тянет свежестью и прохладой, лежит с книжкой с жилистой красной руке щуплый и тоже немолодой. Другая рука у него в гипсе от самого плеча. Читает. Что же он, интересно, читает? На фронте совсем отвык от книг. В полевой сумке всегда лежала одна книжка – «Боевой устав пехоты Красной армии. Часть I. (Боец, отделение, взвод, рота)». Книжка довольно толстая, как «Мёртвые души» Гоголя. Только форматом поменьше. И выучил он эту книжку в красных матерчатых обложках за эти годы с лета сорок первого года почти наизусть. И не только теорию. Боец, отделение, взвод, рота… Бойцом он был. В сорок первом, под Юхновом и Медынью. Под Вязьмой. Да, под Вязьмой тоже. Хотя тогда его звали Курсантом. Уважительно: Курсант. Нет, кличкой это не было, скорее звание. Хотя и звание в то время имел – сержант. Но звание как-то не приживалось. Тогда же, осенью сорок первого, он командовал отделением. Потом – взводом. Взводом он командовал долго. Ещё и лейтенантского звания не имел, когда в отряде, в Красном лесу за Прудками, окруженцы и местные мужики избрали его командиром отряда. Отряд был небольшой, числом до взвода. И потом, зимой и весной сорок второго, когда прибились к отряду майора Жабо, снова командовал разведгруппой. Взвод конной полковой разведки, пожалуй, не больше, чем его разведгруппа, с которой он ходил через лес к Вязьме. А в последний день и ротой он успел покомандовать. Недолго, конечно. Да и рота была порядком выбита. Но всё же…