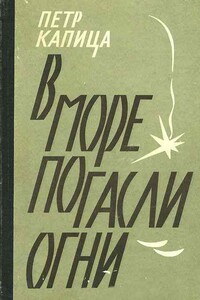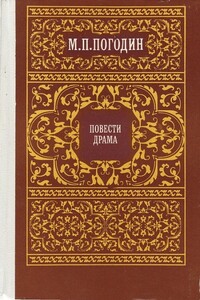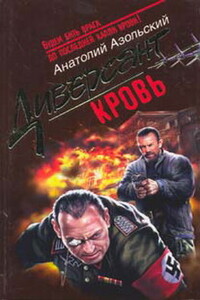Наш герой, влюбленный патриот и враль, рвется на фронт. — Прощание с Этери. — Первое звучание «мананы». — Жуликоватый незнакомец по имени Алеша подружится с ним. — Оба, с трудом верится, станут диверсантами высочайшего класса! — Даешь Берлин!
28 августа 1941 года мне исполнилось (как я уверил себя) шестнадцать лет, войне же было два месяца с неделей, войска наши отступали, показывая немцам спину, войска ждали человека, который остановит их, повернет лицом к подлому захватчику и обратит его в бегство. Таким человеком мог быть только я, Леонид Филатов, для чего и отправился в военкомат.
К этому дню, началу моей личной войны с Гитлером, я готовился пять лет. В Сталинграде должны помнить мальца, бегавшего наперегонки с трамваем: так я воспитывал в себе выносливость, столь нужную защитникам республиканской Испании. Потом мы переехали в Грузию, и мне выпал редкий шанс: мать учила русскому языку местных школьников, а сыну ее разрешали прыгать через класс, вот почему я так быстро кончил среднюю школу. Как ни любили в районе мать, никто не решался отправить меня на фронт: непризывной год! Напрасны были справки о первом месте на спартакиаде, о парашютных прыжках, о готовности с оружием защищать Родину. Но я наседал, умолял, требовал, и, чтоб отвязаться от меня, военкоматский майор пообещал: вот когда исполнится шестнадцать, тогда и…
И в день, назначенный майором, я покинул дом, бежал, оставив матери краткое послание, твердо указав, что вернусь победителем через год, если не раньше. Мать заседала где-то (наступал новый учебный год!), я смело полез в шкаф и надел единственный взрослый костюм, чтоб молодцом предстать перед майором, прикрутил и прицепил к лацканам нагрудные значки, и если что меня отягощало, так это — расставание с Этери, одноклассницей, которую я любил и которая любила меня, поклявшись до гроба хранить верность. Жили мы в райцентре, учительский дом часто навещался учениками, и мы решили, что Этери придет ко мне, благословит на ратные подвиги, и никто не узнает о нашем первом поцелуе. Время шло, я смотрел и смотрел в окно, а Этери все не было и не было. Сердце мое сжималось в тоске.
Да, сжималось и скорбело. Но я уже чувствовал в себе невесомость листочка, который вот-вот сорвется с ветки ураганом, бушевавший над страной, над миром, и ветка легко расстанется с едва распустившимся плоским клейким побегом.
Окинув стены прощальным взглядом, я выбрался из дома и отправился на войну без напутствия любимой, догадываясь уже, что мать Этери воспротивилась прощанию. Губы мои шептали имя тоненькой девушки, которая была старше меня на два года, и если что и удерживало меня от слез, так это радость оттого, что наконец-то я иду защищать Отечество. Иду — высмеянный матерью, которая в запальчивости как-то сказала, что я — недоразвит, глуповат и вообще родился недоношенным.
До Зугдиди — три часа езды на арбе или тридцать минут на полуторке. Едва я приблизился к мостику через давно высохшую речку, как услышал звавший меня голос Этери, и мне стало мучительно нежно, сладостно, ноги мои подкосились. Я увидел Этери, выбежавшую из-под дырявого настила. Ручонки же ее сжимали флейту. Семья Этери славилась музыкальностью, порою приглашали и меня в свой оркестр, ни флейты, ни скрипки не доверяли, но я освоил маленькую гармошку, научился играть на зурне и семейный квинтет не портил.
Мы обнялись. Мы плакали. Впервые ощутил я губами гладь неродного женского тела, я прикасался к векам Этери и к ее ушкам. Я почувствовал свой вкус винограда, когда наши губы сблизились, нарушая все запреты Этериной мамы. Рыдающая любимая сказала, что будет ждать меня до победного нового года и поэтому никуда из села не уедет, в институт не поступит, в техникум тоже, всю осень будет она помогать дяде Гиви собирать чай. Потом она отстранилась, и флейта исполнила песню, которую мы любили. Это была «манана», местная, как уверяла Этери, мелодия, из века в век передаваемая и сохраняемая, но я, всегда всем увлекавшийся, музыкой тоже, слышал в народном напеве этом нечто европейское, поэтому и мне, русскому, так легла на ухо эта грузинская песня.
Запылившаяся дорога (приближался грузовик) укоротила наше прощание, Этери нырнула под мостик… Обрывая все связи с прошлым, я на ходу вскочил в грузовик и выпрыгнул из него на окраине Зугдиди. Две лепешки, ломоть сыра и пачка убедительных бумаг лежали в узелке, расчищая мне дорогу на фронт. Я шел к светлому будущему, к победе, стремясь попасть в военкомат до того, как всесильный майор закроется в кабинете на обед. Присев на минутку перед штурмом цитадели, я вдруг обнаружил рядом с собою, на скамейке, красноармейца без пилотки, парнишку чуть постарше моих лет, который проявил ко мне истинно мужское внимание, предложил закурить, получил отказ, но ничуть не обиделся и дружески похлопал меня по плечу. «Иду на фронт!» — не без гордости сообщил я, и красноармеец понятливо кивнул так, будто речь шла о посадке на поезд в Тбилиси. «Алеша», — назвал он себя, протянув узенькую, но очень крепкую ладошку. «Из госпиталя», — добавил он, и я с уважением глянул на розовеющий шрам от уха к темени, начинавший прикрываться светлыми волосиками. Стираное-перестираное обмундирование на парнишке давно потеряло благородный зеленый цвет, на ногах — великанские ботинки, лихо закрученные обмотки были из едва ли не простынного материала. Да, вот он — истинный воин Красной Армии, получивший ранение в смертельной схватке с подлыми захватчиками. И — развязность, естественная для человека, состоявшего при большом, трудном и опасном деле. «Куда спешить-то… — остудил красноармеец мой пыл, когда я попытался встать. — Никуда от тебя военкомат не убежит, везде заварушка с этими новобранцами, но ты-то ведь — доброволец…» С еще большим пренебрежением отнесся он к моим опасениям насчет скорого, до появления меня на фронте, полного разгрома врага и окончания войны. «Да оставят специально для тебя парочку немцев, — пообещал он. — Убьешь их и вернешься к мамаше. К ноябрьским праздникам не управишься, но уж ко Дню конституции — запросто…»

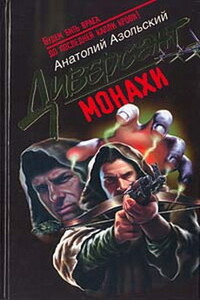




![Мы снова уходим в бой… [Рассказы писателей Вьетнама]](/storage/book-covers/5f/5f38c84c49077a058e54d2ed05b45fd5f7870745.jpg)