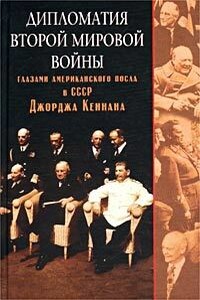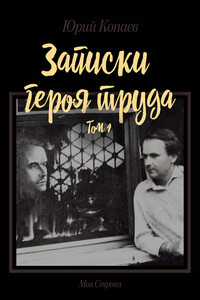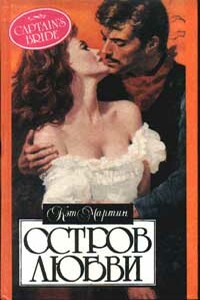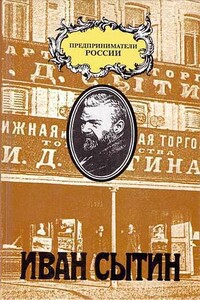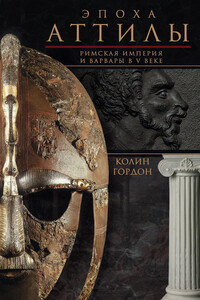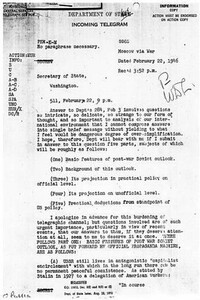Конечно, разные люди в различной степени помнят свои детство и юность. Боюсь, что у меня сохранилось об этих временах не так уж много воспоминаний. К тому же в наш стремительный век человека фактически отделяет от его собственного детства большее расстояние, чем в более спокойные времена, когда не было ни таких технологических переворотов, ни демографических взрывов, ни других столь бурных перемен. Углубляясь в эти воспоминания, я вижу перед своим мысленным взором худощавого, тихого, погруженного в себя студента, затем, более смутно, – не очень опрятного кадета военной школы. И уж совсем немногое я могу вспомнить о школьнике, который путешествовал из дома в школу и обратно по улицам Милуоки на новом трамвае, поражавшем тогда его воображение, весьма неохотно, с большим неудовольствием посещал по субботам школу танцев и так глубоко погружался в собственные грезы, что мог иногда часами не замечать того, что происходило вокруг. Своего более раннего детства я совершенно не помню. Можно, конечно, утверждать, что этот ребенок был очень чувствительным и с опаской относился к окружающему миру (так как рано лишился матери); однако это по большей части известно по рассказам других или в результате моего собственного анализа в более зрелые годы, а не по моим собственным воспоминаниям.
Другая трудность, с которой я сталкиваюсь, когда пытаюсь рассказать о своей жизни с самого начала, состоит в том, что в моем юном сознании, в большей мере, чем это бывает у других, отсутствовала четкая граница между миром фантазий и переживаний и миром реальности. В детстве мой внутренний мир был моим и только моим, и мне и в голову не приходило разделить мои переживания с другими людьми (со временем это свойство постепенно уступило место большему реализму). Моя внутренняя жизнь в то время была полна волнующих загадок, смутных страхов и того, что принято называть откровениями. Например, необычного вида темное и мрачное кирпичное здание с аркой над входом, неподалеку от нашего дома, казалось мне исполненным жуткой значительности, а в деревьях ближайшего к нам парка Джуно, по моему тогдашнему убеждению, жили эльфы (моя кузина Кэтрин рассказывала об этом моей сестре Фрэнсис, и я, конечно, поверил в этот рассказ).
С другой стороны, сами мои воспоминания отличаются неопределенностью и расплывчатостью. Может быть, в том таинственном и жутком кирпичном доме в конце нашей улицы действительно происходили какие-то страшные вещи, и смутные догадки об этом родились в чуткой детской душе. И как я могу быть уверенным, что в деревьях парка никогда не жили эльфы или иные чудесные существа? В жизни случались иногда вещи и более удивительные. Сейчас, конечно, в парке Джуно едва ли можно найти подобные чудеса, и все сказочные существа, должно быть, давно сбежали, напуганные обилием машин в Милуоки (из-за этих машин исчезло уже многое, составлявшее прежде прелесть этих мест). Но кто может сказать точно, что там было, а чего не было в 1910 году? Вещи таковы, какими мы их видим. Я тогда по-своему смотрел на этот парк, и мой взгляд предполагал существование эльфов. Что здесь было правдой, а что фантазией, и до какой степени, этого никто никогда не узнает. Возможно, подобные загадки можно прояснить с помощью психоанализа по Фрейду. Имело бы смысл это делать, будь я большим художником, крупным преступником или просто человеком исключительным в хорошем или дурном смысле. Но я не принадлежу к таким людям.
Здесь следует упомянуть о двух семейных обстоятельствах. Почти все предки моего отца (которые в начале XVIII столетия переселились в эту страну из Ирландии) были фермерами. Один из них стал пресвитерианским священником, другой – полковником революционной армии и депутатом первого законодательного собрания в штате Вермонт, но все они при этом продолжали заниматься и фермерством. Позднее мои предки переселились в штат Нью-Йорк, потом – в Висконсин. Их жены происходили также из фермерских семей.
Все это были люди грубоватые и не всегда привлекательные. Образование и светскость несколько больше интересовали женщин, нежели мужчин. Мой отец первым из них получил высшее образование. Прежде всего им было свойственно тогда жесткое своеволие и нежелание общаться с другими людьми (не считая церковных общин). Они всегда стремились освободиться от любого общества, которое могло бы ограничить их индивидуальную свободу.
Представители нашего рода не были ни богатыми, ни бедными, все они привыкли работать. Не имея капиталов, они никогда не сожалели об этом, не завидовали богатым и не обращались с упреками к властям. Главным для них была их страсть к самостоятельности. От правительства они требовали только, чтобы оно оставило их в покое. Когда бывало трудно (а так было не раз), они жаловались Богу, а не в Вашингтон. Человек, произошедший из такой семьи в XX столетии, должен быть лишен как чувства превосходства, так и чувства неполноценности, свободен от социального недовольства и готов воспринимать всех людей как равных, независимо от расы или национальности.
Такое положение интересно сопоставить с классическими основами марксизма: никто из моих американских предков не был, в сколько-нибудь значительной степени, нанимателем рабочей силы и сам не продавал своего труда работодателю. Трудно представить другую семью, столь далекую от того классического положения, которому Маркс и его последователи придавали существенное значение. Это обстоятельство сказалось, когда я, став уже взрослым, начал иметь дело с последствиями русской революции – первого крупного политического триумфа марксистов. Я никогда не придавал значения всеобщей истины классическому марксистскому противопоставлению капиталистов – кровососов и эксплуатируемых, попранных, но социально чистых рабочих. Однако если говорить о степени, в которой это положение отвечало реальности, то лично я не имел к этой реальности никакого отношения, ни по собственному опыту, ни по опыту моей семьи. Я не могу отождествить себя ни с эксплуататорами, ни с эксплуатируемыми. Если говорить о реальной социальной несправедливости и эксплуатации, которую имели в виду марксисты, то, по моему убеждению, это скорее трагическое недоразумение ранней эпохи индустриального развития, а не драматическое противостояние демонов и ангелов.