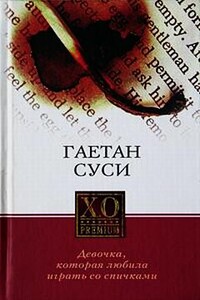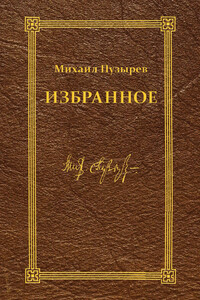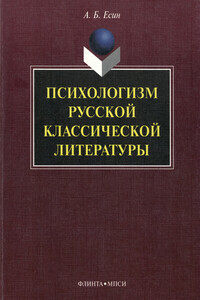Пришлось нам с братом зажать вселенную в ладошке, потому что как-то утром, когда только-только начало светать, папа наш отдал богу душу и даже не предупредил нас об этом заранее. Его бренные останки напряглись от страдания, от которого осталась лишь пустая оболочка, все его приказы вдруг обратились в прах, все теперь было выставлено для торжественного прощания с покойным в спальне наверху, откуда еще вчера папа правил нашим миром. Нам нужны были его приказы, мне и моему брату, чтобы не распасться на части, они нас как цементом скрепляли. Без папы мы понятия не имели, что и как нам надо делать. Сами-то мы только и могли, что сомневаться, существовать, бояться и страдать.
Выражение «торжественное прощание с покойным», если вообще можно себе такое вообразить, здесь совсем не подходит. Брат первым пошел наверх, и именно он зафиксировал произошедшее событие, потому что на меня, как на секретариуса того дня, была возложена обязанность не спеша подняться с моей травяной постели под звездным небом, на которой я провел ночь, и не успел я занять за столом свое место пред книгой заклятий, как вниз по ступеням сошел братишка. У нас так было заведено, что, перед тем как открыть дверь в отцовскую спальню, надо было постучать, а как постучим, надо было ждать, пока папа разрешит войти, потому что нам запрещалось врываться к нему без приглашения, когда он занимался своими делами.
— Я постучал в дверь, — сказал брат, — но папа не ответил. Я ждал, пока… пока…
Из маленького кармашка он вынул часы, стрелки которых пропали, наверное, еще до потопа.
— …вот прямо до сих пор, точно, до сих пор, но он так и не подал никаких признаков жизни.
Он не отрываясь смотрел на пустой циферблат своих часов, как будто не осмеливался взглянуть ни на что другое, а я видел, что его лицо заливает страх — страх и оторопь, — как вода винный бурдюк. Что же до меня, то я поставил дату вверху страницы и сказал:
— Ничего хорошего в этом нет. Только давай сначала посмотрим, что по этому поводу сказано в свитке, а потом уж будем что-то решать.
Мы внимательно прочитали все двенадцать статей кодекса правил образцового домоводства, замечательного документа, составленного много веков назад или даже еще раньше, с большими заглавными буквами и иллюминированием, если б я только знал, что это значит, но даже самых отдаленных намеков, которые могли бы иметь хоть какое-то отношение к сложившейся ситуации, там и в помине не было. Я положил свиток на место, в пыльный ларец, ларец поставил в специальный шкафчик и сказал брату:
— Иди к нему в комнату! Открой дверь и зайди туда! Может быть, отец уже покойник. Но, может, он просто отключился.
Последовало продолжительное молчание. Не было слышно ни звука, только деревянные стены поскрипывали, потому что деревянные стены на кухне нашей мирской обители всегда поскрипывают. Брат пожал плечами и покачал головой.
— Что все это значит? Ничего в толк взять не могу. — Потом он угрожающе ткнул в мою сторону пальцем. — А теперь послушай меня внимательно. Я сейчас туда поднимусь, но если папа умер… ты меня понимаешь? Если папа умер… — На этом он осекся и отвернулся, как собака, которая знает, чье мясо съела.
— Не бери в голову, — сказал я. — Ты же знаешь, мы с этим совладаем.
И отправился братец в неведомое. И понял он, что дверь в папину спальню не заперта. Мы, конечно, уже догадались об этом, когда туда вошли, то есть о том, что дверь была не заперта. Но если бы папа предстал пред нами стоя, проспав, как можно было бы тогда предположить, всю ночь, можно было бы сделать вывод о том, что, проснувшись, он отпер дверь, чтобы упростить нам жизнь. Тем не менее братец мой, войдя в то утро в отцовскую опочивальню, сообразил, что папа, должно быть, всю ночь спал и преставился во сне, потому что он лежал голый, с закрытыми глазами, язык его вывалился изо рта и, кроме того, дверь в его спальню была не заперта. Иначе трудно было себе представить, зачем ему надо было корячиться и раздеваться догола, чтобы испустить дух, если бы всю ночь, следуя своему обычаю, он не сомкнул глаз. Из чего следовал единственный вывод о том, что он спал, причем спал голый, и скончался именно в таком виде без разрыва непрерывности. Такой была цепочка моих логических умозаключений.
Брат подошел ко мне бледный, как кость.
— Он совсем белый, — сказал брат.
— Белый? — переспросил я. — Что ты хочешь сказать? Какой — белый? Белый как снег?
Когда речь заходит о папе, нужно быть готовым к чему угодно. Братец размышлял над ответом.
— Помнишь запруду по другую сторону огорода, не сток, который справа, а омут за деревянным сараем? Ясно тебе, что я имею в виду?
— Да, — сказал я, — ту, что возле часовни. Ты о ней, что ли, говоришь?
— Если сбежать вниз по пологому склону, который сразу за ней, окажешься у высохшего ручья.
— Так оно и есть.
— Помнишь камни, которые там навалены? — Я их себе представил. — Ну вот, отец такой же белый, как они. Точь-в-точь такой же белый.
— Ты что, хочешь сказать, что он вроде как в голубизну отдает? — спросил я. — Он что, синевато-белый?
— Да, такой вот он и есть, синевато-белый.