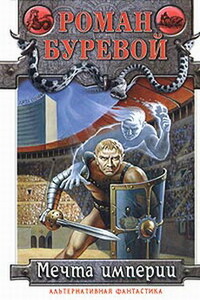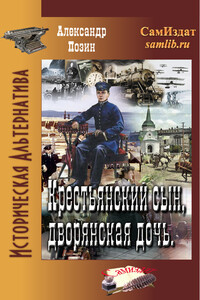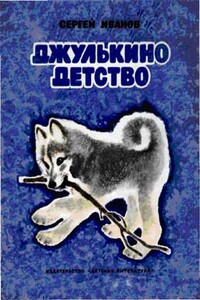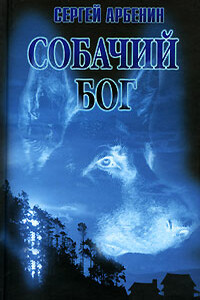ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
СУДНЫЙ ДЕНЬ
(Эпилог вместо пролога)
ПЕТЕРБУРГ.
1 марта 1881 года.
На улицах – толчея. Извозчики в синих кафтанах, с белыми номерами на спинах, были отменно вежливы, и готовы не только выслушивать и прощать чужие грехи, но и охотно каяться в собственных. Торговки несли связки бубликов с маком, валдайских баранок. И улыбались приветливо.
Даже в дымных кабаках, за столами с самоварами, с плошками, доверху наполненными мелко наколотым сахаром, не слышалось грубой брани.
На Марсовом поле с утра собрался народ поглазеть на невиданное зрелище: американских лихих пастухов. Заморские пастухи были в кожаных штанах, в сапожках со шпорами и в громадных шляпах, надетых, ввиду морозца, прямо на войлочные шапки. От лошадей шёл пар, американские пастухи мёрзли и с остервенением крутили над головами арканы, которые назывались тоже диковинно – лассо.
Были смех, оживление, но не слышалось ни единого бранного слова.
Даже проститутки – и те выглядели нарядно и скромно. Правда, если верить Ломброзо, их можно было узнать даже в приличном обществе по слегка выдвинутой вперёд нижней челюсти. Но в этот день казалось, что у гулявших, глазевших по сторонам питерцев не было ломброзианских челюстей. И все, как и должно было быть, просили прощения за грехи, большие, малые, и совсем маленькие. Друг у друга просили, но как бы одновременно – и у Бога.
В церквах с утра было столпотворение, и к кладбищенским воротам стояли вереницы извозчиков.
И все друг друга простили, даже мёртвые живых, и живые – мёртвых. И больше того: казалось, что наконец-то и живые простили живых…
* * *
И вдруг – всё опрокинулось.
Опрокинулись лошади. Упал, сбитый с козел, ординарец. Раскинув руки, опрокидывался с ломавшей ноги лошади конвойный казак. И ещё – какой-то разносчик с корзиной. Корзина перевернулась, из неё поползли окровавленные куски мяса…
Белый дым.
Протяжно и страшно ржали лошади. Это ржание пробивалось даже сквозь вату, которая, казалось Рысакову, намертво забила ему уши. Он стоял, пошатываясь и поводя вокруг себя невидящими глазами. Он видел раскрытый, кричащий рот кучера, но не слышал крика и думал, что кучер – просто немой, только об этом Рысакову не сказала «Блондинка», Соня Перовская. Это тот самый лейб-кучер, лейб-гвардии кучер… Как бишь его? Фрол. Фрол Сергеев. А рядом с кучером, согнувшись, сидел ординарец, и почему-то закрывал лицо красными мокрыми руками, и тоже кричал – сквозь пальцы.
Потом Рысаков увидел снег и снова подумал о вате, забившей уши. Вата была такой же серой, мокрой и рыхлой. И, наверное, с такими же пятнами крови, пропитавшими снег.
Дым рассеивался, качаясь. И сам Рысаков качался, не понимая ещё, что это качают его люди, насевшие сзади, облепившие с боков. И голоса, наконец, стали пробиваться сквозь вату всё отчетливее, всё злее.
Сначала что-то несуразное: «Якин! Якин!» Потом разобралось. Голос, привыкший к повелительным интонациям, голос, знакомый половине России, на этот раз дрожал:
– Кулебякин! Ты цел? Кулебякин!..
«Кулебякин, – вспомнил Рысаков, – командир конвоя, лейб-гвардии Терского казачьего эскадрона».
И, наконец, – многоголосое:
– Царя убили! Царя! Вот этот и убил, с узелком. Я и думаю, куды это господин с узелком-то? Неужто на канал, в прачечную?
– А кто такой?
– Да вот этот!
– Гляди, гляди, как бы не убёг…
– А в узелке у него, говорю, она самая и есть.
– Бонба?
– Ну!
– Скубент, наверное… А вот я ему сейчас…
И сейчас же сердитый, но какой-то плаксивый голос вмешался:
– Отставить! Держать крепче! Вон Государь!
«А, тот самый капитан Кох! – догадался Рысаков. – Это он полтора года назад спас императора от пуль Соловьёва».
Тёмная фигура государя в долгополой шинели вышла из разбитой, осевшей назад кареты, появилась сквозь оседающий дым. Фигура тоже качалась. И казалась она Рысакову не просто высокой, – невероятно высокой, до самого неба.
Какой-то человек в порванном мундире бросился к государю. И, пригнутый к земле беспощадным кулаком, бившим его в шею, Рысаков расслышал что-то вроде:
– Государь! Вы не ранены? Слава Богу!..
И опять:
– Государь! Благоволите сесть в мои санки!..
«А! Государь!» – подумал Рысаков и приподнял голову, вывернул шею, чтобы увидеть его – того «злобного старикашку», о котором ему столько рассказывали, того самого, которого он, Рысаков, почему-то должен был казнить. И тут же понял, что снова может слышать, – и с удивлением услышал сплошной дикий рёв, в котором смешались ржание, стоны раненых, крики сбегавшейся отовсюду толпы.
– Я-то не ранен… – хриплый, слегка дрожащий голос («А! Государь!»). – А вот он…