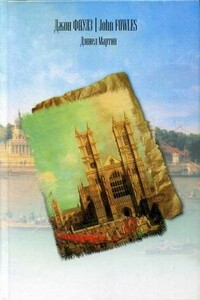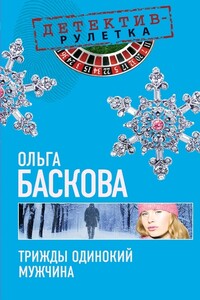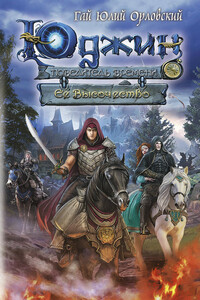Но что случилось с этим человеком?
Весь день (вчера позавчера сегодня тоже)
сидел молчал уставившись в огонь
наткнулся на меня уже под вечер спускаясь по ступеням
и мне сказал:
«Лжёт тело мутится вода и сердце колеблется
и ветер теряет память забывая всё
но пламя остаётся неизменным».
Ещё сказал он:
«Знаешь я люблю ту женщину которая исчезла ушла
в потусторонний мир быть может; но всё ж не потому
кажусь я брошенным и одиноким
Я пытаюсь держаться как то пламя
что вечно остаётся неизменным».
Потом поведал мне историю свою.
Георгос Сеферис.2 Стратис-Мореход описывает человека
Увидеть всё целиком; иначе — распад и отчаяние.
Последний лесной участок лежит на восточном склоне глубокой лощины, у самого гребня; склон такой крутой и каменистый, что плугом не взять. От былого леса осталась лишь небольшая купа деревьев, в основном — буки. Поле сбегает вниз по склону от стоящих стеной стволов, мягко круглясь к западу, и тянется до самых ворот, распахнутых в долину Фишэйкрлейн. На траве у зелёной изгороди тёмные пальто укрывают корчагу с сидром и узел с едой; рядом поблёскивают две косы — с утра пораньше тут из-под кустов выкашивали траву, ещё мокрую от росы.
Теперь пшеница уже наполовину сжата. Льюис сидит высоко на сиденье жатки, когда-то карминно-красной, выгоревшей на солнце; он наклоняется, напрягая шею, вглядывается в гущу рыжеватых стеблей — не попадётся ли камень; ладонь чутко сжимает рукоять — не пришлось бы поднимать ножи. Капитан практически не нуждается в вожжах: столько лет в поле, всё одно и то же — ходи по свежей стерне рядом с не скошенными ещё колосьями. Только добравшись до угла, Льюис чуть покрикивает, совсем негромко, и старый конь покорно поворачивает назад. Салли — лошадь помоложе — помогала тянуть жатку там, где подъём слишком крут; она стоит привязанная в тени боярышника и, объедая листья с зелёной изгороди, хлещет хвостом по бокам.
По стеблям пшеницы ползёт вьюнок; осот отцвёл, распушил головки; алеют маки; в самом низу — полевые фиалки, трёхцветные, их здесь называют «радость сердца», голубые глазки вероники и ярко-красный очный цвет, белые цветки пастушьей сумки… впрочем, эти уже не так бросаются в глаза. У поля есть имя — «Свои хлеба» (имеется в виду хлеб печёный, то есть «хлебы»): в стародавние времена зерно отсюда шло исключительно на хлеб для фермерской семьи, хватало на год. А небо… глядя из сегодняшнего дня, можно было бы сказать — как в Калифорнии: царственно-яркая августовская синева.
По полю движутся ещё четыре фигуры, не считая Льюиса на жатке. Мистер Ласкум: красное лицо, кривая усмешка, очки в стальной оправе, один глаз за ними закрыт бельмом; штопаная рубашка в тонкую серую полоску, без воротника, обшлага обтрёпаны; вельветовые штаны на подтяжках подстрахованы ещё и ремнём из толстой кожи. Билл, его младший сын: парню девятнадцать, он в кепке, массивный, на голову выше всех остальных на этом поле, мощные загорелые предплечья словно копчёные окорока; этот великан медлителен и неловок во всём, что не касается работы… но поглядите: вот он берётся за косу — какими крохотными оказываются тогда её изогнутое косовище3 и длинное лезвие, какая быстрота, какой плавный взмах мощных рук, какой неостановимый ритм — поистине царственное владение мастерством. Старина Сэм: бриджи, подтяжки, ботинки с гетрами; лицо теперь не припомнить, зато хорошо помнится его хромота; рубашка на нём тоже без воротника, у соломенной шляпы тулья с одной стороны оторвана («чтоб в дырку сквознячком подувало, понял, нет?»), за чёрную ленту засунут букетик привядших фиалок — «радость сердца». И — наконец — мальчишка-подросток, лет четырнадцати-пятнадцати, в совершенно неподходящей одежде; всего лишь подсобная рабочая сила, урожай помогает собирать: бумажные штаны, светло-зелёная сетчатая майка, старые спортивные туфли.
Работают по двое, на противоположных сторонах поля, одна «команда» движется по ходу часовой стрелки, другая — против, ставят снопы в копны. Подхватываешь сноп правой рукой, повыше шпагатного перевясла — за него браться нельзя! — переходишь к следующему снопу, подбираешь его так же, только теперь левой рукой, и направляешься к ближайшей незаконченной копне; копна — это четыре пары снопов плюс ещё по одному с обоих концов — «двери запереть»; встаёшь перед другими снопами, опёртыми друг о друга, поднимаешь свои два в обеих руках и устанавливаешь, с силой вбивая комли в стерню и одновременно соединяя снопы верхушками. Казалось бы — чего уж проще? Куини, может, и в самом деле так думает, задержавшись на минутку у распахнутых ворот по дороге из пасторского дома, куда ходит по утрам прибирать; стоит себе, придерживая велосипед, наслаждаясь бездельем, и смотрит. Мальчишка машет ей рукой с дальнего конца поля, и она машет ему в ответ. Когда минуту спустя он снова смотрит в ту сторону, она всё ещё стоит там: летняя шляпка цвета беж, тулью обнимает белая шёлковая лента с большой искусственной розой впереди; выгоревшее коричневое платье; тяжёлый старый велосипед, на заднем колесе — драная защитная сетка.
Мальчишка ставит два первых снопа — основание новой копны. Они стоят, потом начинают заваливаться на сторону. Он подхватывает их прежде, чем они успевают упасть, поднимает обеими руками повыше, чтобы поставить потвёрже. Но мистер Ласкум устанавливает свои два всего в шести шагах от него, и снопы стоят домком, прочнее прочного. У мистера Ласкума основание не заваливается — никогда. Кривая усмешка приоткрывает почерневшие зубы, он подмигивает мальчишке, бельмо едва видно, солнце отражается в стёклах очков. Медно-красные кисти рук, старые коричневые башмаки. Лицо мальчишки складывается в гримасу, он забирает свои снопы и ставит их рядом со снопами старого фермера. Внутренняя сторона предплечий у него в ссадинах: пальцы недостаточно сильные. Если копна чуть подальше, в руках снопы не удержать, приходится рывком брать их под мышку, обдирая кожу о колючки. Но ему приятна эта боль — знак жатвы, часть ритуала, как и ноющие мышцы назавтра, как сон нынче ночью, затягивающий, словно омут, — быстро и глубоко.