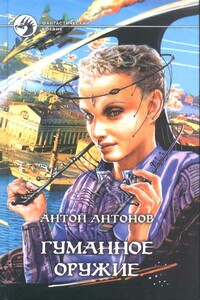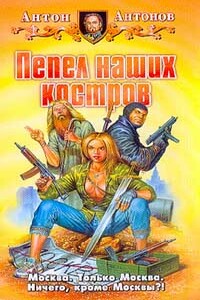Те последние месяцы… В какую обертку ни заворачивай, дерьмо дерьмом: Рафа estaba jodido[1]. К тому времени нянчились с ним уже только мы с мамиком и ни хрена не понимали — что делать? что говорить? Поэтому оба молчали. Мать у меня и так не спец по эмоциям, не мать, а черная дыра: любые неприятности в ней исчезают бесследно, и что она при этом чувствует — неизвестно. Бульк — и ровная гладь. Ну, может, глаза иногда сощурит или поморщится. Да я и сам бы с ней трепаться не стал, даже если б она хотела. Меня друганы в школе пару раз пробовали расспрашивать — я им чуть не вломил: «Хули суетесь? Свинчивайте отсюда». Мне было семнадцать с половиной, и я куривал столько анаши, что вообще удивительно, как хоть что-то из тех дней помню.
У матери был свой метод. Глушила себя работой: между братом, фабрикой и домашней возней (не мне же по квартире ишачить — у мужиков отвод!) сутками не спала. При этом всегда умудрялась выкроить пару часиков для нового объекта своей страсти — Иеговы. Каждому своя травка. Раньше в церковь редко ходила, но после высадки на планете Рак задвинулась на Jesucristo[2] по полной. Хорошо креста подходящего не нашла, а то бы сама себя к нему пригвоздила. В тот последний год подсела на Ave Maria[3] и распевала ее в квартире по три раза в день с группой таких же богомолиц. Я их окрестил «Четыре Всадницы Апокалипсиса». Самую молодую (похожую, правда, больше на лошадь, чем на всадницу) звали Гладис. Год назад у нее обнаружили рак груди, и, пока облучали, муж (дьявольское отродье!) умотал в Колумбию, где женился на ее двоюродной сестре. Аллилуйя! Как звали вторую — не помню; ей было лет сорок пять, но на вид — все девяносто, такая развалина. Грузная, спина ни к черту, почки ни к черту, колени ни к черту, диабет и подозрение на ишиалгию. Аллилуйя! Солировала же, в основном, донна Рози, наша соседка сверху — самая жизнерадостная пуэрториканка на свете, даром что слепая. Аллилуйя! За ней приходилось присматривать, ибо перед тем как сесть, донна не удосуживалась проверить, есть ли под ней хоть что-нибудь, способное выполнить роль сиденья. Она уже дважды расшибла жопу, промахнувшись мимо дивана (в последний раз с воплем: «Dios mio, que me has hecho?»[4]), и оба раза мне приходилось выползать из нашего подвальчика и поднимать ее с пола. Кроме этих viejas[5], друзей у матери не осталось (на исходе второго года нас даже родственники забросили), и только при них мать слегка оживала. Травила старые байки. Разливая кофе в tacitas[6], маниакально добивалась, чтобы в каждой вышло поровну. И если одна из Всадниц пускала петуха, прерывала ее укоризненно-тягучим Bueeeennnnoooo[7]. В остальное время мамик все делала, не подключаясь: скребла, мыла, наводила марафет, готовила жрачку, таскалась в магазин то за тем, то за этим — нон-стоп. Пару раз я видел, как, остановившись, она глубоко вздыхает, прикрывая глаза ладонью, — и это было единственное, что выдавало ее усталость.
Но Рафе, конечно, было еще тяжелее. Хотя после второго пришествия из больницы он всячески делал вид, будто ничего не случилось. Отчего тоже сносило крышу, ибо часть дня он ни хрена не соображал из-за полученного облучения, а в остальное время даже пернуть не мог от усталости. Чувак потерял 36 кг и смахивал на брейкера-вурдалака (брат был последним би-боем в Нью-Джерси, отказавшимся от брейкерского прикида — спортивного костюма и витых цепей) со шрамами от спинальных пункций вдоль позвоночника и походкой вразвалочку (почти такой же, как до болезни), выдававшей в нем стопроцентного loco[8]. Он гордился репутацией первого психа в округе и не мог допустить, чтобы такая мелочь, как рак, помешала ему ее поддерживать. Недели не прошло со дня выписки, а он уже успел садануть молотком по роже нелегала из Перу и через два часа после этого завязать драку в Pathmark[9] с каким-то козлом, болтавшим о нем всякую хрень. Козел получил слабенький апперкот в хлебало, после чего мы их растащили. «Вы чёёё!» — надрывался брат, будто мы совершали несусветную глупость. Синяки, оставшиеся на нем от нашей усмиряющей хватки, смахивали на лиловые диски циркульной пилы или на зародышей ураганов.
Чувак был реально крут. Все телки по нему сохли, и он этим, конечно, пользовался: водил своих sucias[10] в наш подвал нередко прямо при матери. Одну, по прозвищу Лошадиный Зад (из Парквуда), притащил в самый разгар молитвенных песнопений, и вечером я не выдержал и сказал: «Рафа, un chin de respeto»[11]. Он только пожал плечами: «Пусть знают, что я еще могу». Уходил на тусовки в Хонда-Хилл и возвращался, еле ворочая языком, мыча что-то невразумительное. Кто его плохо знал, мог и впрямь подумать, что наш papi chulo[12] пошел на поправку. «Вот увидите: я еще и вес наберу», — грозил он. И заставлял мать готовить мерзотные протеиновые шейки.
Мамик умоляла его отлежаться. «Вспомни, что доктор говорил, hijo[13], вспомни». А он ей: «Ta to, мам, ta to»[14] — и утанцовывал за дверь. Всегда поступал по-своему. Меня мать и ругала, и проклинала, и била, а с ним разговаривала так, будто готовилась на роль в мексиканском сериале. «Ay mi hijito, ay mi tesoro»