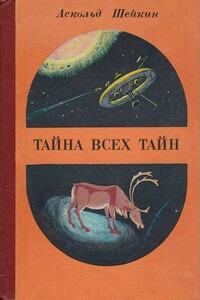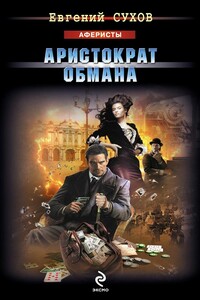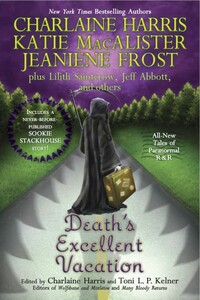— Так мы тебя оставляем, — сказал бригадир и развел руками: что же, мол, делать?
Зубцов усмехнулся. Его совершенно безмятежная, даже будто слегка сонная физиономия оживилась.
— Завтра не обещаю, послезавтра — тоже, но еще через денек, к вечеру, — точно. — Бригадир похлопал себя по карману пиджака. — Тогда и напишем бумагу.
Зубцов опять усмехнулся.
— Немного поживешь в одиночку. И не работа будет — курорт.
Тут уж Зубцов не выдержал.
— Дай подкову, — сказал он и протянул руку.
— Какую подкову?
Бригадир ошеломленно оглянулся на вертолет. Высунувшись из люка, пилот нетерпеливо махал огромной, словно сапог, перчаткой. Зубцов покивал головой:
— Эх ты! Ничего-то у тебя нет: ни подковы, ни счастья.
— А это ты зря, Федя, — вмешался Тимофей Кращенко, тоже слесарь, как и Зубцов.
Новенький синий комбинезон, щегольски простроченный зелеными и красными нитками, сидел на нем как влитой. Из нагрудного кармана багряной ковбойки выглядывал, поблескивая, штангенциркуль.
— Да, зря, — с въедливой назидательностью повторил Кращенко. — У Никиты Кирилловича жена красавица, и сам он кровь с молоком.
Кращенко нисколько не кривил душой. Это и на самом деле было так.
— Ну вас обоих к дьяволу, — сказал бригадир и пошел к вертолету. Сгибаясь под тяжестью брезентовой сумки с инструментом, Тимофей Кращенко потащился за ним.
— А ларек? — насмешливо крикнул вдогонку Зубцов. — Пивной ларек поближе тут где, елки-палки? Друзей разве так покидают? Адресок, елки-палки, могли бы сказать на прощание, уважить…
— А-а… — отозвался Кращенко, не останавливаясь, и это прозвучало как: «Тебе только бы у ларька и торчать».
Вертолет затрещал мотором, проутюжил воздушной струей уже начавшую никнуть от летней жары траву, швырнул в Зубцова облако сорванных вихрем листьев рябины. Несколько мгновений повисев в вышине, он скользнул вбок, за черно-зеленую стену дремучего ельника.
Зубцов запахнул свой бурый от пятен машинного масла и ржавчины, видавший виды ватный бушлат, с которым не расставался ни в жару, ни в холод, поджав губы, покивал головой.
— Эх, Федя, Федя, — вслух обратился он сам к себе, — и вся-то твоя жизнь в холодочке…
Он даже презрительно сморщился, чтобы картинней выразить свое отношение и к бригадиру, и к Тимофею Кращенко, и к вертолету, и вообще ко всей этой проплешине в таежном лесу, которая называется нефтяной скважиной № 1735.
Относилось это также к вагончику, в котором ему предстояло жить. Был он зелененький, аккуратненький, белел занавесочками. Не вагончик, а райское гнездышко, или, вернее, нечто вроде избушки на курьих ножках, потому что он стоял на полозьях.
Это было, конечно, всего лишь игрой, но такой, какая давно стала для Зубцова привычной формой взаимоотношения с окружающим миром: снисходительно посмеиваться, немножко ворчать, но всем и каждому — не только людям, но и предметам неодушевленным! — сразу выказывать, что он, Федор Зубцов, несмотря на свои всего только двадцать четыре года и простецкую внешность, парень тертый и его уже ничто не удивит.
Вразвалку и все еще сохраняя на лице выражение презрительной многозначительности, он приблизился к тому, что, собственно, и было скважиной. В этом месте земного шара из бетонной плиты торчало огражденное легкими металлическими мостками кряжистое стальное дерево, подставлявшее солнцу три яруса коротких, но могучих ответвлений, усеянных колесами кранов.
На языке специалистов эти краны назывались задвижками, вся верхняя часть дерева — елкой, и так же, как новогоднюю елку венчает серебряная или золотая звезда, стальную елку завершала круглая плоская коробка манометра — буферного манометра, сказал бы нефтяник об этом приборе, потому что был тут еще один манометр, но только уже почти у самой земли. Он назывался затрубным.
Вообще, то, что Зубцов знал немало слов, неизвестных большинству людей на Земле, например: превентор, лубрикатор, затрубное и буферное давление, — составляло для него предмет особой гордости, равно, впрочем, как и то, что поворотом колеса задвижки ему порой доводилось открывать или преграждать путь потоку самой сокрушительной стихии. Каждая профессия имеет своих патриотов.
Подойдя к скважине, Зубцов некоторое время постоял, склонив голову набок и прищурясь, и только потом уже начал орудовать задвижками и вентилями.
Нижний манометр ничего нового не показал.
Зубцов достал из кармана бушлата тетрадку в желтой картонной обложке и с заложенным между страницами карандашом, мизинцем сдвинул обшлаг рукава, взглянул на часы, записал: «24 и-ля, 15 ч. Затр. ман. ход. ок. 50 ат.» Это значило: «24 июля, 3 часа дня. Стрелка затрубного манометра колеблется около деления, показывающего давление 50 атмосфер».
Закрутив вентиль манометра и задвижку, Зубцов поднялся на мостки. Верхний прибор вел себя точно так же, и это безусловно значило, что 2-километровый столб тяжелого раствора, залитого в скважину, чтобы удержать ее от фонтанирования, раскачивается, как на пружине.
Сделав вторую запись и спрятав тетрадку в карман, Зубцов ладонью похлопал по колонне.
— Что ж ты, голубушка? — спросил он. — Нехорошо. Сознательность-то у тебя есть?