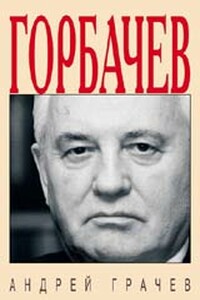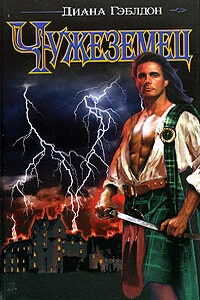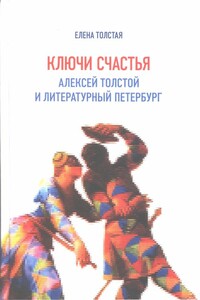Илья проснулся от неясного ощущения то ли крика, то ли стука. Послушал немного с закрытыми глазами — тихо в избе. Разлепив с натугой веки, Илья увидал лишь черноту. Свет едва протискивался сквозь затянутое грязным промасленным пузырем окошко, почти не разбавляя мрак в избе. В голове стоял глухой скрежет, Дыхание перехватывала боль в хрустящем от жажды горле, а во рту было так гадко, словно там медведь испугался. Попытавшись облизать пересохшие губы, Илья содрогнулся. Показалось, что распухший и шершавый язык стер крепкие желтые зубы едва не до десен.
«Испить бы!» — с трудом провернулась тоже распухшая и шершавая мысль. Илья приподнялся и тут же, охнув, рухнул обратно, когда тяжелая балда грохнула в затылок откуда-то изнутри головы. Перед закрывшимися глазами плавали светлые и грязные пятна, неуемная тошнота подкатила из живота под самый нос, проступив сквозь веки едкими слезинками.
«Ничего себе, погуляли вчера с тиуном! Пивца бы сейчас хлебнуть — враз полегчало бы.»
Открыв глаза, Илья поискал на полке заветный кувшин с пивом, припасенный специально на утреннюю поправку.
«Да вот же он на столе. Жаль, подать некому. Родители в Муром уехали, а работников сам на сенокос отослал всех.»
Медленно, постанывая, поднялся Илья с лежанки у печи и заковылял, враз покрывшись потом, к столу, держась за стену и стараясь не уронить на загаженный пол голову, в которую в такт сердцу раз за разом била медная булава.
Не только тяжелое похмелье было причиной такой слабости. Илья и трезвый был не ловчее с тех пор, как двадцать с лишком лет назад, вот так же в разгар лета, налетел на село небольшой, невесть откуда взявшийся в этой глуши отряд степняков. Взрослые тогда были на сенокосе на дальних лугах, в домах оставались одни дети и старухи. Наскоро пограбив и потешившись, степняки скрылись в лесу, оставив после себя пожары и мертвые тела. Полон не брали — далеко тащить. Илья схоронился тогда в огороде и выжил, единственный среди братьев и сестер. Выжил, да ходить больше не смог. Когда кривые ножи отрезали головы старших братьев, когда кричала под зверовидными мужиками сестра Милуша, тело мальца сжалось от испуга и закаменело. Так и нашли его потом в ботве прискакавшие на дым сельчане. Лишь к осени стал Илья двигаться едва-едва. Но болезнь его не оставила. Вот и оказался Илья у родителей единственный сын, последний. На диво статный, лицом красивый, грудь широка, мышцы могучие бугрятся. Да только ноги не ходят и руки не держат — при малейшем напряжении становятся как деревянные. Так порой твердеют, что и троим мужикам не согнуть их, не разогнуть. Шаг ступить — мука. До околицы недалекой добирался Илья как до Мурома залесного — весь в поту, уставал, будто бревно дубовое тащил. Не работник, не защитник, не жених, одно слово — убогий. Не могли излечить болезнь ни знахари-травники, ни горячие молитвы матери, ставшей ревностной христианкой после потери старших и несчастья младшего дитятка. Только когда наливался Илья хмельной брагой до качания земли, двигаться становилось немного легче. Да и тоску брага разгоняла. Потому и любил Илья посидеть за полночь с поселившимся в деревне бывшим тиуном — болтуном, выпивохой и лентяем, но мужичонкой незлым и неглупым.
Когда удалось добраться наконец до стола, оказалось, что спасительный кувшин пуст. Вылакал его вчера тиун, хоть уже и на лавке еле держался — вспомнил Илья. Оставалась еще кадь с водой. Качнувшись к ней, Илья наклонился и чуть не вывернулся от ударившей в нос кислой вони.
«Да тиун же хотел водицы испить и охарчился прямо в кадь. Вот беда-то! Придется теперь до колодца корячится, или помирать прямо здесь.»
От такого непотребства даже всплакнул Илья над своей беспомощностью, выдавив из тела последние капли влаги.
— Эй, хозяин! — врезался в уши поросяче-хрипучий голос — Есть кто дома?
Дверь отворилась и в щель просунулась рябая мерзкая рожа с редкими клочками рыжих волос на грязном подбородке.
— Ты че не отвечаешь? Я глотку уж сорвал, а ты молчишь. Дай испить водички. А лучше пивка вынеси. Вишь, перебрали мы вчера — голова гудит. Ну чего стал, деревенщина, тащи давай, не жадничай. Вымахал облом такой, а как калик — божьих странничков уважить, так и шагу ступить трудно!
Визгливый крик побродяжки, добавившись к медным ударам изнутри, растрескивал голову страшной болью.
«Да это же он надо мной смеется, изгаляется над моей бедой», — дошло наконец до Ильи. «Здоровый, наглый, побродяжка смеется над больным да несчастным. Где же правда божия!»
Жестокая обида, раздирающая внутренности жажда, отвращение к своей нелепой, никчемной судьбе — все это сплавилось вдруг в Илье в ревущий гнев, разогнавший пятна в глазах, застлавший все красной мутью. И этот гнев разорвал цепи, так долго сковывавшие огромное тело. Ощутив вдруг необычайную легкость и свободу, Илья шагнул к двери, занося руку…
Опомнился Илья в углу широкого двора недалеко от колодца. Росистый утренний воздух кажется немного утишил боль в голове, сделав ее более острой, но не такой всеохватывающей. Илья подошел к колодцу со странной, как во сне, легкостью, пихнул стоявшую на срубе бадейку и услышав глухой бульк, взялся за закрепленную на срубе веревку. Чтобы поднять тяжелую бадейку, Илья вложил в рывок всю силу, ожидая, что сейчас руки опять не сдержат и придется напрягаться в борьбе с постылой хворью. Но веревка пошла вверх неожиданно легко, раздался слабый хлопок и новый бульк. Илья ошалело уставился на торчащий из руки обрывок немного раскисшего, но еще вполне прочного крученого лыка.