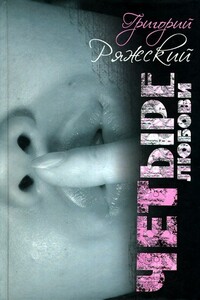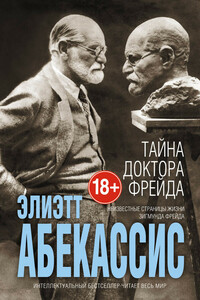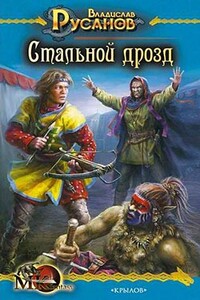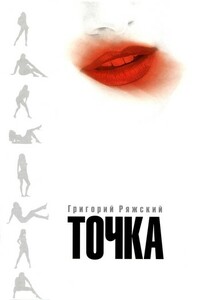Ле-ев!.. Лев Ильи-и-и-ч!.. Ле-е-ва-а!
Был десятый час вечера, между двадцатью пятью минутами и половиной, и солнце по обыкновению коснулось в этот момент торца левого столба, что у ворот, того самого, откуда начинался штакетник. Лева знал, что еще самая малость и оно присядет на край забора, на минутку, не более того, потому что еще через мгновение начнет заваливаться ниже, к верхней сучковатой перекладине, а потом — и ко второй, нижней, той, что почти у земли. Но к этому моменту отсюда, со второго этажа дачи, из его, Левиного кабинета, солнца будет практически не видно. Там его перекроет куст красной смородины, последний из тех, что сажала Любовь Львовна, Левина мать. И хотя она обычно лишь руководила посадкой, в семье заведено было считать, что главный по растениям, как, впрочем, и во всем остальном, — она. Лев Ильич любил эту ежегодную свою летнюю повинность — нет, не сажать и копать, а вообще — проживать с матерью и семьей дачный кусок жизни. Это было его любимое время, особенно в конце июня, когда солнечный диск перед самым закатом внезапно загустевал розовым, и в момент касания о небо, в той самой недолгой точке, совпадавшей с воротным столбом, горизонт тоже становился розовым, однако уже не таким густым и сочным. Лева не посвящал в свою поэтическую тайну (вообще-то вполне профессиональное знание: всякий киношник осведомлен о получасовом освещении, на профессиональном жаргоне — «режим», когда дважды в сутки небо розовеет и надо успеть снять самый красивый кадр) никого, даже самых близких: жену Любу и падчерицу, тоже Любу, Любочку, или, как называли ее в семье, — Любу Маленькую. Наверное, если бы Любовь Львовна в те годы, еще до своей неизлечимой болезни, знала об этой романтической причуде сына, она не стала бы каждый раз настаивать на непременной жизни на даче с мая по октябрь с предъявлениями доказательств пошатнувшегося за последние двадцать лет здоровья и отдельно — состояния многочисленных «нервных путей». По той же причине ревнивой материнской зловредности она никогда не называла внучку-падчерицу Любой Маленькой. В этом, по ее мнению, скрывалась излишняя ласковость, совершенно не пригодная к употреблению и без того в непростой системе семейных коммуникаций, шатко балансирующих в узкой зоне относительного мира, туго зажатого между бесконечными свекровиными обидами и последующими их утрусками и усушками при постоянном Левином посредничестве. Заменителем Любы Маленькой, таким образом, в Любовь Львовнином лексиконе являлось слово простое, упругое и незамысловатое — Любовь. Просто Любовь, невесткина дочка и ничего больше — этакое сочетание строгости, дистанции и прохлады. При этом собственное имя в сравнительное рассмотрение не принималось. Само по себе, отдельно от отчества оно в расчет не бралось, и поэтому было неделимо и неразрывно связано с именем Левиного прадеда, Льва Пантелеймоновича Дурново, того самого, из тех Дурново, что и при царе, и при Временном правительстве, да, кажется, и потом…
Жена Левина, Люба, так в Любах у свекрови и ходила, при этом хотя и не была переведена ею в разряд Любовей, но в зону нужного к Любови Львовне приближения при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов и окончаний тоже не попадала.
Дача стояла в подмосковной Валентиновке, где уже двадцатый год после смерти Левиного отца семья ежегодно проводила лето, иногда захватывая часть осени, даже если та была морозной, но при этом сухой. Дом и участок остались от Ильи Лазаревича, Левиного отца, литератора и драматурга таланта более чем сомнительного, но обласканного в свое время властью за пьесу «Два рассвета на один закат». Пьесу эту по пьяному делу накатал друг Ильи Лазаревича, Горюнов, и, в отличие от образованного приятеля не осознавший что получилось, переуступил авторство Илье за недорого — поход в «Арагви» с «отрывом от действительности». Пьеса пошла в восьмидесяти театрах по всему Союзу и не исчезала из репертуара вплоть до восемьдесят пятого — начала горбачевского перелома. Таким образом, строительство дачи на трудовые отчисления началось сразу после опубликования пьесы — весной шестьдесят второго. Землю на восьмидесяти сотках, по количеству театров, предоставила в собственность щедрая власть. К моменту, когда нужно было стелить полы, недовольной оставалась только Любовь Львовна — считала, что восьмидесяти театров явно недостаточно, а пьесу Горюнов мог бы по дружбе написать для них еще: одной — больше, одной — меньше, все равно ни черта в этом не смыслит.
К середине шестидесятых, когда Лева заканчивал школу, Валентиновка обросла номенклатурным населением самым капитальным образом. Литераторы и композиторы по чьей-то неслучайной причуде перемешались с министрами, их замами и прочим нетрудовым людом, готовившим уже тогда отходные пенсионные позиции взамен госдач, которые по разным причинам могли не стать пожизненными. Тогда и въехала взамен сгинувших куда-то интеллигентов-врачей Кукоцких семья Глотова, отраслевого рыбного начальника, — что-то по линии мореходства или пароходства, который с палочкой все хромал, на протезе, без одной, говорят, был ноги. Знакомиться к соседям Казарновским глава семьи, Эраст Анатольевич Глотов, пришел самолично. Илья Лазаревич тогда отсутствовал, и Любовь Львовна, прихватив с собой Левку, милостиво откликнулась на приглашение рыбной семьи отпить чаю из самовара. «Рассветы» к тому моменту бушевали уже по всей стране, и к кому шел знакомиться, Глотов представление имел.