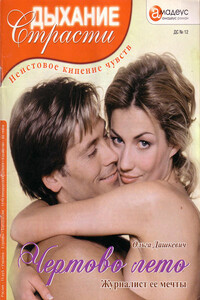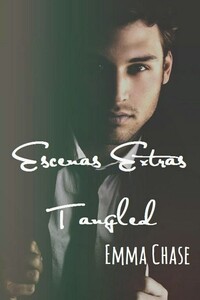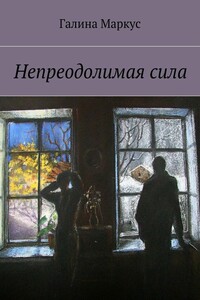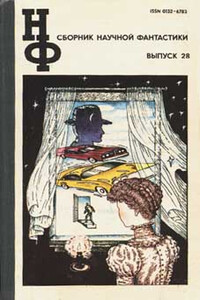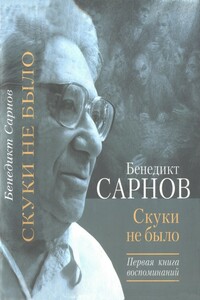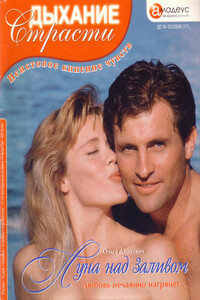Вот так и молодость пройдет, между прочим!.. Все время работа, работа, работа, а мне уже тридцать один — ну, допустим, выгляжу моложе, все говорят, — но четвертый десяток разменяла, а где?.. Где, я вас спрашиваю, банановые рощи, апельсины и луна, и какой-то древний замок… И рыцарь бедный… нет, бедного нам не надо, бедными мы уже по горло сыты. Тутусик мой, Сенечка, вполне подходит под это определение — бедный; во всех, паразит, отношениях бедный: и в финансовом, и в духовном, и даже в физическом. Такой весь ху-у-уденький. Мамсик такой. Дня не может прожить без моего крепкого плеча. Черт бы его побрал совсем, никакой личной жизни из-за него, паразита. Только что-нибудь наклюнется — тут же Сенечка, как чертик из коробочки: здравствуй, Машенька, мне что-то так одиноко, я к тебе сейчас приеду! А попробуй ему скажи, что у меня вечер занят — тут же начинает так ныть и занудствовать, что проще плюнуть и сидеть весь вечер дома, поить его чаем и выслушивать истории о женском коварстве.
Тьфу!
Вот надо же: Софья Львовна такая приятная во всех отношениях женщина, а сыночек такое беспросветное чмо. Но мне же вечно неловко сказать об этом прямо! Когда Софья Львовна заводит свою любимую пластинку: «Машенька, вы поймите, мой Сеня страшно одинок, он такой хрупкий, такой ранимый, ему так трудно в Америке с его тонкой душевной организацией…», — я просто тупо киваю, упершись глазами в чашечку с настоящим, сваренным в турке, кофе. Софью Львовну я люблю. А она любит свое дурацкое чадо и совершенно искренне считает Сенечку не инфантильным нытиком и размазней, а тонкой, страдающей и страстной натурой. Но что же мне теперь — замуж за него выйти?! А ведь, если так дальше пойдет, действительно выйду. Ужас какой.
Но главное сейчас не в том.
Главное состоит в том, что я сейчас рулю на хорошей скорости по хайвею, стремительно удаляясь от желто-серой, даже с виду вонючей тучи, обозначающей Нью-Йорк, с чувством, близким к панике. Это чувство поселилось во мне с позавчерашнего вечера, и все мои судорожные рассуждения о том, что молодость проходит, а счастья в жизни нет — не более чем попытка спрятаться от суровой действительности.
Суровая действительность обрушилась на меня неделю назад в лице потрясающего мужика — по всем статьям Настоящего Мужчины… Впрочем, тогда эта действительность еще не была столь суровой. Даже, прямо скажем, наоборот. Когда он впервые заглянул в мой кабинетик в редакции и я подняла затуманенный чтением авторских материалов взор (очки сползли на кончик носа, шевелюра растрепана, туфли валяются под столом, юбка, и без того не слишком длинная, задралась совсем уже неприлично), мне показалось, что я медленно падаю в большой провисший гамак, наполненный розовато-голубыми облаками — вот что со мной сделала его извиняющаяся улыбка. Впрочем, возможно, такой сильный эффект был достигнут благодаря жаре, от которой в этот чертов понедельник не спасал никакой кондиционер.
— Простите, — сказал Настоящий Мужчина, еще раз, для закрепления достигнутого, сверкнув безукоризненными зубами на загорелом лице. — Вы ведь редактор? Мария Верник? Ваши девочки сказали мне, что…
Мои девочки! Я неслышно скрипнула зубами. Для чего я держу этих лучезарных блондинок у себя в приемной?.. Чтобы они кокетничали с приходящими ко мне — я подчеркиваю, ко мне! — Настоящими Мужчинами? Уж наверняка стреляли глазами так, что канонада слышна была на улице. Завтра же всех уволю.
Естественно, вслух я ничего подобного не сказала, а быстро и незаметно сунула под столом слабо запротестовавшие ноги в туфли, взбила свободной рукой шевелюру, другой рукой сдернула с носа очки и, как бы в некоторой рассеянности прикусив дужку (я слышала, что это чертовски сексуально выглядит), кивком головы указала посетителю на кресло.
— Да, — сказала я, смею надеяться, мелодичным грудным голосом, — вы не ошиблись, я редактор, Мария Верник. Чем могу быть полезна?
Это хорошая фраза, гораздо лучше, чем буквально переведенная с английского «Чем могу помочь?», которую здесь используют все бывшие русские, и от которой попахивает плебейством и заискиванием. Посетитель ее оценил, что было заметно по замечательным искоркам в глубине его серых, со стальным отливом, глаз.
Боже, что это были за глаза! До сих пор плачу, между прочим. Представьте себе утонченность Пирса Броснана, этого последнего Джеймса Бонда, неподражаемую сексуальность первого Бонда, Шона Коннери, и добавьте холодноватый блеск и разящую красоту Тимоти Далтона. И вы получите почти точный портрет Настоящего Мужчины, который сидел передо мной в сереньком кресле так небрежно, как будто это было седло «Харлея», или, на худой конец, кожаное сиденье «Кэдди-конвертабл» стиля шестидесятых годов.
По идее, логичней всего пришельцу следовало представиться так:
— Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд.
И он представился почти так же:
— Моя фамилия Саарен. Ян Саарен.
— Очень приятно, — сказала я и выжидательно постучала очками по краю стола.
Блеск его глаз чуть-чуть, самую малость, потускнел, в них мелькнуло недоумение.
— Вам мое имя ни о чем не говорит?.. А между тем я часто печатал свои материалы в центральных газетах и был бы рад…