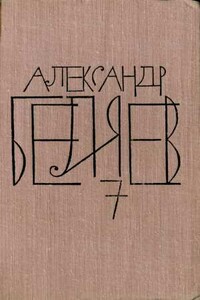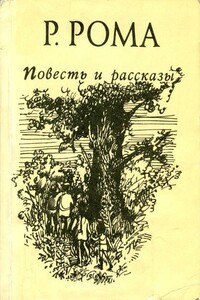Тягуче гудели тополя в палисаднике, со скрипом и стуком задевая крышу, над нею и садом низко проплывали клочья облаков, разорванных ветром. В доме постукивали ходики; свет керосиновой лампы косо ложился на пол, на печь, освещая край стола и лавки под окнами. Тревожный ветер, тревожный стук, тревожный неверный свет…
Хозяин дома Иван Печкур, прижав кулаки к густым седеющим усам, морща покатый лоб, сидел за столом навалившись на него широкой грудью. Перед ним стоял только что появившиеся машинист Курбанов и его помощник — плечистый рябой Алехин…
Прошла минута-другая тяжелого гнетущего молчания. Печкур отнял кулаки от лица и снова обвел нежданных гостей настороженным взглядом. Курбанов шумно дышал, его черный форменный китель потемнел от пота и крови. На тонкой молодой шее билась жилка, из-под густого черного чуба поблескивали глаза. Алехин кривил губы. Ореховые его глаза бегали с предмета на предмет. Он нервно проводил ладонью по своей гимнастерке, тоже покрытой свежими кровяными пятнами. В голубых глазах старика вспыхнуло выражение озадаченности и недоверия.
— Курбанов, говори толком: где эшелон? Куда делся? Где люди, что с ними?
Печкур приподнялся: Требовательно тряхнул редкими седыми волосами, сквозь, которые просвечивал крутой череп.
— Что ж ты воды в рот набрал?
— Говорить больше нечего, — устало ответил Курбанов.
— Как так нечего! — вскинулся Печкур.
— А так, — Курбанов отбросил со лба чуб, — фашисты как с неба на голову свалились…
Печкур куснул ус.
— Вас кто-то продал?
— Понятия не имею…
Печкур теребил усы и смотрел на Курбанова, точно видел его впервые.
…Как-то приехал из далекого Ташкента на стажировку машинист Пулат Курбанов и в клубе на танцах познакомился с нарядчицей Таней Печкур. Молодые люди стали встречаться и полюбили друг друга. Курбанов попросил руку его дочери, и Печкур не стал перечить: успел уже приглядеться к парню. Курбанов, даром что только начинал, по-хозяйски относился к своему локомотиву, весь мелкий ремонт делал со своей бригадой и слесарям помогал. Печкур, в прошлом машинист, сам был таков и за долгие годы успел накрепко утвердиться в мысли: кто к работе — с душой, тот нигде не подведет. И видный из себя зять, впрочем, это Танюшкино дело…
Сыграли свадьбу. Курбанов пока перевелся сюда, в депо. Супругу свою Печкур давно похоронил, и стали жить втроем в домике над озером.
Молодые ладили. Таня любила Курбанова. И он в ней души не чаял. Втроем собирались съездить в Ташкент навестить старую мать Курбанова с младшими братом, которая все просила в письмах познакомить с молодой женой и намекала, что неплохо бы им остаться в Ташкенте… Отец Пулата, слесарь Красновосточных мастерских, большевик, пал смертью храбрых в восемнадцатом году во время Осиповского контрреволюционного мятежа.
Отпуск не состоялся. Война спутала все планы… Печкур опустился на стул и потер висок. В чем же дело? Где корень зла? В эшелоне остались: начальник депо Дубов, парторг Вагин, лейтенант Косицкий с бойцами охраны, сменный машинист Маркизов и его, Печкура дочь, нарядчица Таня… А Курбанов… Печкур даже не заметил, что стал мысленно называть зятя по фамилии, как чужого… Курбанов утверждает, что его с Алехиным прислал к нему Дубов. Даже доверил пароль. Но эшелон давно уже должен был дойти к нашим, не мог не дойти… Неужели фашисты уже так далеко ушли вперед, на Восток?.. Неужели отрезали путь?.. Не может этого быть!
Дубова, конечно, познакомили с явками, с паролем и отзывом, но так, на всякий случай. И этот случай, о котором даже не хотелось думать, произошел? Тогда почему уцелели эти двое? Ведь о связных уговора не было… Нет, здесь что-то не так. Нужно все спокойно взвесить, привести мысли в порядок…
И Печкур попытался припомнить все, что произошло в городе и на станции за сравнительно короткий, но полный событий отрезок времени.
Бой кипел под самым городом. Наши части, взрывая за собой железнодорожные пути, мосты, сдерживая яростно атакующих гитлеровцев, планомерно отступали. Клубы черного дыма окутывали дома, переулки, привокзальную площадь, станционные пути и плыли за семафор в степь, к лесам…
В депо под гидравлической колонкой стояла маневровая «овечка». Из котла, пробитого снарядом, вырывался кипяток. Тоскливый, точно человеческий, вопль окутанной паром «овечки» носился под багровым небом. Неподалеку от станции горел элеватор. Огненные языки, казалось, доставали до облаков, повисших над полями.
И все же эвакуация проходила собрано, четко, без всякой спешки.
Своевременно отправили на восток весь паровозный парк, под метелку. На станции и в тупиках ни одного вагона. Вагоны последнего эшелона загрузили токарными станками, оборудованием, а платформы — подъемными кранами и автомашинами. В классных вагонах и теплушках разместились рабочие с семьями, командный состав и воинская охрана. В депо стало хоть шаром покати. И когда эшелон тронулся, те немногие, кто оставался, сдерживая слезы, сцепив зубы, взорвали за ним стрелки.
А наутро через город, лязгая траками, прошли серые танки с черными крестами, высокие грузовики, набитые солдатней в глубоких уродливых шлемах. Германская военная комендатура деловито занялась установлением «нового порядка». Этот «порядок» очень напоминал тот, против которого молодой Иван Печкур с товарищами поднялся двадцать с лишним лет назад, только был куда «деловитей». Пока германская полевая жандармерия и наскоро набранные полицаи расстреливали ни в чем не повинных людей, немецкая хозяйственная команда принялась за перешивку путей, на свой, западный — узкоколейный лад и восстановление стрелок. На станцию стали прибывать румынские, польские, венгерские локомотивы, рассчитанные для эксплуатации на оккупированных «рейхом» территориях.