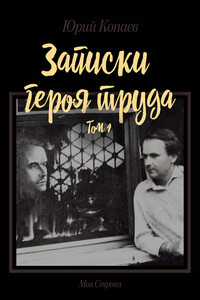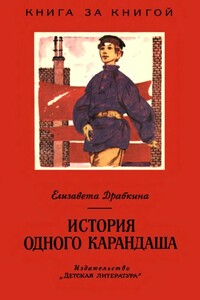Холодной петербургской зимой 1896 года, на рождестве, в Мариинском театре шло праздничное представление. Давали «Пиковую даму». Партию Германа пел знаменитый Николай Фигнер.
После очередного выхода артиста, как и всегда, вспыхнула буря аплодисментов. Фигнер, раскланиваясь, вышел на авансцену. И тут с галерки, перекрывая шум, прозвучал сильный молодой голос:
— Браво, Фигнер! Браво!
И с той же силой этот голос удивительно точно и музыкально, но в басовом ключе, пропел несколько фраз из арии, которую только что исполнил Фигнер.
В антракте к группе студентов, занимавших места на галерке, подошел капельдинер и отозвал одного из них в сторону. Спутники студента тревожно переглянулись. Но он, поговорив с капельдинером, махнул им рукой, чтоб они не беспокоились, — все в порядке, он скоро вернется.
Капельдинер проводил его в уборную Фигнера. Певец перед зеркалом поправлял грим. Когда вошел студент, знаменитый артист пересел к роялю и предложил ему спеть что-нибудь по собственному выбору. Тот выбрал «Эпиталаму» из рубинштейновского «Нерона». Прослушав, Фигнер спросил, не пожелает ли он принять участие в конкурсе на предмет вступления в труппу Мариинского театра.
— Нет, — сказал студент. — Не желаю.
— Почему же? — спросил Фигнер. — При вашей музыкальности и от природы поставленном голосе вы можете рассчитывать на прекрасную карьеру.
Студент пожал плечами.
— Каждому своя судьба, — сказал он. — Одному быть солистом оперной труппы его императорского величества, другому…
Он не договорил, но это и не было нужно. Фигнер понял, что студент, говоря о «других», подразумевает его сестру Веру Николаевну Фигнер — народоволку, находившуюся в пожизненном заключении в Шлиссельбургской крепости.
— Тогда прощайте, — холодно сказал Фигнер.
— Прощайте, — весело ответил студент и бегом, перепрыгивая через три ступеньки, помчался на галерку к своим товарищам.
Этим студентом был мой отец Яков Давыдович Драбкин, носивший в годы подполья партийные клички: «Лебедев», «Нация», «Харитон», «Травин», «Иван Сергеевич», «Сергей Иванович Гусев». Последняя из них — «Сергей Иванович Гусев» — закрепилась за ним навсегда, и под ней он известен в партии.
Его биография типична для людей молодого поколения, вступившего на революционный путь в девяностых годах прошлого века.
Первое сильное впечатление детства — убийство Александра II и процесс народовольцев, а особенно помещенная в «Ниве» иллюстрация, изображавшая Желябова и Перовскую в тот момент, когда их везли на высоких дрогах к месту казни. Потом — коронация императора Александра III. Еврейские погромы, отметившие начало нового царствования. Дикие сцены, разыгравшиеся, когда, по приказу местного богача-помещика князя Куракина, на лугу перед княжеским дворцом крестьянам в честь коронации было роздано несколько бочек водки. Трупы перепившихся мужиков, валявшиеся тут же, на этом лугу.
Потом, на пороге отрочества, — встречи с осколками народничества. Впервые услышанные слова о любви к народу, к мужику, к бедняку. Чтение, превратившееся в страсть и на долгие годы ставшее неодолимой потребностью. Инстинктивная ненависть к богу и религии, которая после знакомства с учением Дарвина сделалась сознательным убеждением.
Белинский, Писарев, Добролюбов, Шевченко, Некрасов, Чернышевский… «Что делать?» и сны Веры Павловны… Герценовский «Колокол»— первое нелегальное издание, попавшее в руки. Ученические кружки, книги по истории Французской революции. Разрыв с семьей. Просветительные занятия с отдельными рабочими. Первое знакомство с марксизмом. Недолгие колебания — кто же прав: народники или марксисты? Марксистский кружок, изучение «Коммунистического манифеста».
В 1896 году — Петербург, Технологический институт, созданный Лениным «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Техническая работа в нелегальной организации: устройство типографии с мимеографом, печатание прокламаций, разноска по заученным наизусть адресам этих еще влажных листков с лиловыми расплывающимися буквами.
В марте 1897 года — участие в демонстрации перед Казанским собором по поводу самосожжения в Петропавловской крепости курсистки Ветровой, доведенной до самоубийства издевательствами царских тюремщиков. Через неделю ночной звонок: полиция. Обыск, во время которого обнаружены социал-демократические брошюры и напечатанная на мимеографе «Рабочая газета». Допросы в жандармском управлении. Ответы, что, каким образом попали к нему эти нелегальные издания — он не знает кто отправитель найденного у него в кармане письма — ему неизвестно, а о том, с кем был знаком во время своего пребывания в Петербурге, ничего сказать не может, ибо ни с кем знаком не был. Шестимесячное заключение в «предварилке», использованное на то, чтоб основательно проштудировать «Капитал». Ссылка в Оренбург.