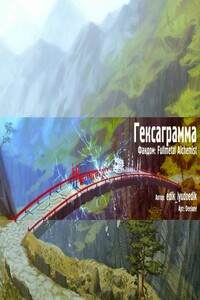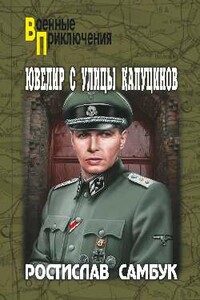Трое вышли из лесу.
Шли по июньской ржи наискось через поле к селу, черневшему деревянными кровлями у самого горизонта.
Самого низкого из троих колосья хлестали по лицу, он выставил вперед руки и потихоньку ругался сквозь зубы. Слева от него раздвигал грудью рожь здоровяк, скуластое лицо которого было рассечено широким шрамом от носа до подбородка. Он шел осторожно, стараясь не топтать хлеб, так, как идет по полю настоящий хозяин. Шагал неуклюже, будто сердясь на свои кирзовые сапоги сорок пятого размера, оставлявшие такие огромные следы. Третий — совсем еще юноша с пухлыми розовыми щеками — все время нагибался, срывая васильки. Автомат болтался у него на шее, приминал рожь, и верзила сердито косился на паренька, вроде собираясь наорать на него, но так ничего и не сказал.
Перед тем как выйти к селу, эти трое долго сидели в густых кустах в перелеске. Юноша и верзила дремали в тени, а низенький время от времени высовывался из кустов и настороженно оглядывался вокруг. Но за все время по проселку, вившемуся вдоль леса, проехал лишь пожилой крестьянин на полной фуре соломы. Низенький тревожно покосился на товарищей, но мужичок даже не взглянул в их сторону: спал, растянувшись на соломе, изредка спросонья помахивая кнутом. Старые лошади, очевидно, привыкли к этому: шагали медленно, фыркая и не обращая внимания на кнут и ленивые «но–о» своего хозяина.
Фура проехала, а в застывшем воздухе все еще стоял острый запах конского пота и прелой соломы. Верзила шевельнулся, сел, опершись спиной о ствол молодой осины, и жадно втянул в себя воздух.
— Кто–то проехал? — подозрительно посмотрел он на низенького близко поставленными глазами.
— Старый Матиящук солому возит…
— А–а… — равнодушно вздохнул здоровяк и почесал щеку. — Может, догнать и расспросить?
— А что он знает? — отмахнулся низенький. — На хуторе живет, дальше своего носа ничего не видит.
— Ну так и не будем трогать, — лениво согласился верзила. — Вообще–то, надо бы… — он постучал грязными ногтями по ложу автомата, — но он какой–то мой родич…
— Голытьба, — презрительно бросил низенький.
— Три морга[1] имеет, — сказал здоровяк так, что трудно было понять, осуждает он своего родственника или сочувствует ему. — А потом еще два Советы прирезали…
— Моей!.. — вдруг обозлился низенький. — Лучшей, что сразу за лугами…
Верзила промолчал. Поковырял веточкой в крепких желтоватых зубах, сплюнул.
— Пойдем? — предложил он. Низенький согласился.
— Разбуди Дмитра, — кивнул он на прислонившегося щекой к мешку с едой паренька, — разморило его на солнце.
— Да и прошли километров двадцать, — улыбнулся здоровяк. — А он еще того… сопляк…
Едва верзила коснулся юноши, как тот заморгал и схватился за автомат.
Здоровяк поцокал языком:
— Лесная закваска.
— Подвинь–ка мешок, — приказал пареньку низенький, вытащил бутылку, открыл пробку и понюхал. Довольно покрутил головой, снова заткнул пробкой и бережно прислонил к дереву. Затем разложил на мешке хлеб, сало, куски жареного мяса, лук, подбросил на ладони банку консервов, размышляя, стоит ли открывать, и потянулся за штыком, висевшим в кожаных ножнах на блестящем, с узорами офицерском ремне.
Верзила от удовольствия крякнул и взял стакан. Низенький покосился на него. Но здоровяк только подышал на стакан, обтер его краем мешка и поставил на место. Низенький, продолжая открывать банку, прикусил губу, отчего его продолговатое бледное лицо приобрело упрямое выражение.
— Налей полстакана Дмитру! — приказал он, отрезав пареньку огромную краюху хлеба.
Паренек робко взял стакан.
— Может, раньше вы? — предложил он.
Верзила потянулся к стакану, но низенький решительно остановил его:
— Сказано — Дмитру! Иль не слышал?
Здоровяк только грустно вздохнул, а юноша небрежно поднял стакан и, хотя губы едва заметно дрожали, выпил, чуть поморщившись. Сразу же отвернулся, пряча испуганные глаза, но на него никто не смотрел. Верзила подхватил пустой стакан, налил до краев и опрокинул в горло — казалось, не глотая. Облизал губы и отломил маленький кусочек хлеба.
— В этом и вся хитрость! — сказал он удовлетворенно. Нагнулся к консервам, но не удержался, искоса посмотрел, сколько налил себе низенький и не осталось ли хотя бы на дне.
Тот перехватил взгляд, как–то злорадно усмехнулся и медленно высосал самогон, смакуя и причмокивая.
Ели молча, жадно и неряшливо, чавкая и бросая за спину объедки.
Первым отодвинулся от еды Дмитро. Растянулся на мягкой травке в тени, подложив под голову руки. От самогона жгло в желудке, но все же полегчало, исчезло чувство страха, весь день преследовавшее его. Юноша исподлобья посмотрел на товарищей. Низенький, скривившись, жевал луковицу, а верзила выскребывал банку большим грязным пальцем. Дмитру стало смешно: человек, переодетый в гимнастерку с майорскими погонами и блестящими орденами, хрюкает от удовольствия и слизывает с пальца остатки мяса. Грицко Стецкив почему–то напомнил ему вонючего кабана. Да что поделаешь — силой его бог не обидел, а впрочем, ко всем чертям. Особенно сегодня…
Дмитру снова стало страшно. Если выглянуть из кустов, то на горизонте, за рожью, можно увидеть село — большое прикарпатское село, куда они войдут ночью.