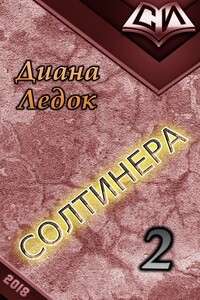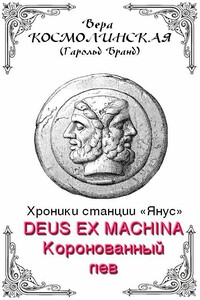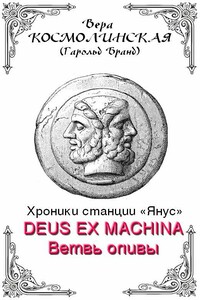Серебристый кот с шелковистой шерстью, не длинной, но пушистой и тонкой, танцевал на поверхности гладкого и плотного сиреневого океана, на мягких лапах, лишь чуть-чуть придавливавших почти невидимые лиловые волны. Кот был огромным, вытянувшись в струнку, он легко, играючи, доставал до неба, откуда и стянул большой синий мяч, он сжимал его в лапках, не выпуская когтей, принюхивался мягким чутким носом, и усы его нежно подрагивали, ощупывая, исследуя шар, пускал вскачь по сиреневому океану, кромка которого упиралась в розовеющий закат, гонял в одну сторону и в другую, подкидывал вверх, улегшись на спину, иногда чуть обжигаясь, когда подушечки касались ледяных полярных шапок с двух сторон шара. А потом положил мяч на темнеющую лиловую рябь, приблизив к нему немигающие золотистые глаза и, аккуратно тронув лапкой, послал, как шар в лузу, в сторону розовеющего заката. И зачарованно следил, как он катится. Потом догнал в несколько прыжков, поймал, отбил лапой в сторону, прыгнул, снова поймал. Наконец, обхватив поплотнее и аккуратней, снова поставил его на небо, и опять закружился в танце на кончиках задних лап, раскинув передние, как руки, и обратив подрагивающие сверкающие вибриссы к небу, усеянному звездами и большими темными шарами.
Над сиреневым океаном нежно разливалось тихое мурлыканье.
И между океаном и небом не было больше ничего.
Мне казалось, что я потерял память. Но не совсем. Сколько я себя помнил, я помнил и эти нависшие над Землей глыбы. Темнеющие и сверкающие в лучах Солнца. Всегда. Вечно. Изломанные, остроконечные, с причудливыми башнями, ощетинившимися орудиями, как странные скульптуры, загораживающие звезды на одной стороне Земли, и отражающие свет Солнца днем — на другой стороне.
Вечно. Здесь теперь всегда светило Солнце. Но никогда не раскаляло поверхность. Землю окружала ловушка времени, и на ней было свое время, а за границами незримого пузыря — другое. Многое, как будто, остановилось и здесь. Вечно синее небо, не меняющаяся погода, постоянный легкий ветерок, которому уже, как будто, неоткуда было дуть. Люди, которые стремились к чему-то так же, как этот ветерок, постоянно и впустую, круг их жизни был замкнут, их не существовало для всей вселенной за границами ловушки времени. Ловушки, в которую были заключены не посверкивающие на Солнце глыбы, ловушки, в которую была заключена Земля, и жизнь на ней, будто механический записанный смех.
Я помнил все это, сколько помнил себя. И в то же время, я как будто видел все это в первый раз, и изумлялся — как может такое быть. Но почему я должен был изумляться, если я не знал ничего другого? Как и многие поколения, жившие до меня в этом замкнутом пузыре. Может быть, ловушка несовершенна? И что-то прорывается сквозь нее, зовя в неведомый, безграничный океан за ее пределами? Но если хоть что-то вырвется отсюда, ловушка будет уничтожена. А вместе с нею — Земля. Ее согретые солнцем тротуары, белоснежные дома, аллеи пирамидальных тополей. И кипарисов. Вечный полдень под нависшей из далекого прошлого обманутой смертью. Набросившей на все свою тень.
Вот только, обманули ли мы ее. Мы ведь ее и не обманывали? Это были не мы? А наши предки? Тысячелетия назад. Если только… если только все не повторялось и здесь, и здесь не рождались все время одни и те же люди, проживающие одну и ту же жизнь, чтобы появиться снова, снова жить и умереть. Ведь все повторяется, разве не так? И мы знаем это. Пока не придет час, и с ними не случится то, что должно было случиться тысячелетия назад.
И теперь, почему-то эта мысль вызывала улыбку и странную радость. Что это? Нечто древнее и атавистическое, или нечто новое, навеянное извне. Мне казалось, я знаю точно — наконец-то всему должен прийти конец. Конец вечному полдню и вечным будням, и вечным праздникам.
Я шел по улице, и улыбался, а люди улыбались в ответ, и махали руками, глядя в небо, на безумно красивые и страшные, зависшие в сияющих лучах глыбы. И поднимали детей на руках, чтобы они лучше могли рассмотреть эту красоту, это последнее сияние.
Откуда мы знали, что это конец?
Откуда мы все знали, что будем, наконец, свободны?
И почему были счастливы, как этот вечный полдень? И никогда мы не чувствовали, что он вечен, как только в этот последний час…
Ночь над Диким полем стояла тихая и звездная. Грозно роптали высокие травы, будто полки в строю, наступающие отовсюду. Колыхались дикие колосья, жесткие и неуступчивые точно копья, кивающие легкими перьями, будто султанами. Не было одиночества в этих травах. Были призрачные воинства, вечно шепчущие и сверкающие зачарованной сталью, так что и шагу некуда было ступить в этих волнующихся толпищах.
Но расступились травы перед бегущим зверем, загорелись огоньками глаза и пропали снова. И вот уже не один ропот трав слышен, но и стук копыт, и гортанные негромкие возгласы, и не одни лишь плещущие остья, но и гривы засеребрились, и звериные шкуры, шитые жилами. Откуда-то из мрака вылепилась, будто лишь на время, десятка татар. Остановилась, сдержав коней, и прислушалась, принюхиваясь. Кони похрапывали, чуя не то зверя, не то чужого человека.