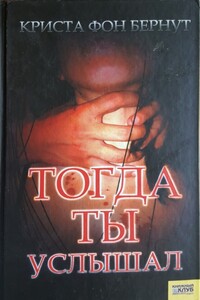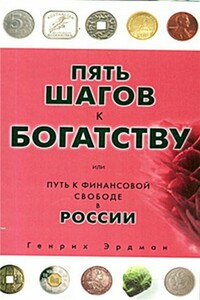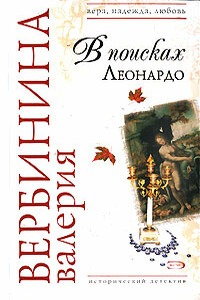«Поскорее бы все это кончилось».
Узник лежал, скорчившись под тощим тюремным одеялом. Взгляд терялся в полумраке камеры. Единственное окно слишком высоко, и даже днем из него были видны только ветви дерева, растущего снаружи.
«Как медленно тянется время… А что, если бы оно остановилось? Насовсем. Или повернулось вспять. Да, мне бы вернуться в тот день, когда… Когда я еще мог убежать. Скрыться… Ведь я сразу же почувствовал, что что-то не так, едва увидел того полицейского…»
Из коридора донесся стук башмаков охранника, подкованных железом. Узник на кровати дернулся, закусил ноготь большого пальца. Глаза его лихорадочно блестели.
«И не надоело ему там ходить? Сколько сейчас – час? Два ночи?»
Ветер завыл, засвистел за окном, затряс ветви дерева, и тут же человека, терзаемого бессонницей, поразила другая мысль:
«Завтра в это время меня уже не будет… Все останется – и ветер, и небо, и дерево за окном моей камеры… А меня больше не будет. Отчего? За что?»
Он мысленным взором увидел себя, лежащего в деревянном ящике с отрубленной головой, неумело приставленной к телу; увидел даже следы запекшейся крови там, куда упадет нож гильотины. Видение было таким отчетливым и таким неприятным, что он в приливе паники даже ощупал свою шею, проверяя, на месте ли его голова.
«А ведь президент мог меня помиловать… но не сделал этого. И теперь я умру. Умру, умру, я умру… О, боже мой…»
Узник заворочался на кровати, сбросил одеяло, которое душило его, потом, почувствовав холод, снова накрылся. Он был уверен, что уже не уснет, ни за что, никогда не уснет, но, едва закрыв глаза, и сам не заметил, как провалился в тяжелое забытье.
Его разбудил надзиратель, добродушный толстяк с рыжеватыми усами.
– Поднимайтесь, Варен… Время пришло.
Узник смотрел на него, спросонья ничего не понимая, но затем внезапно вспомнил все, и его губы задрожали. Он сделал над собой усилие, чтобы сглотнуть застрявший в горле ком, но тот никуда не собирался деваться.
– Уже? – давясь этим комом, прошептал человек, осужденный на смерть.
Он с ужасом вдруг почувствовал, что вот-вот сейчас разрыдается, но какие-то ошметки гордости, самолюбия или упрямства – те, которые застревают в сите человеческой души и остаются там до самого конца, несмотря ни на что, – взбунтовались и вынудили предательские слезы отступить.
– Приведите себя в порядок, – сказал надзиратель. Он смущался, потому что раньше ему не приходилось иметь дело с осужденными на смерть, оттого голос его звучал нарочито бодро и неприятно резал слух своей фальшью. – Сейчас принесут завтрак. Можете поесть, если хотите. Священник уже здесь, он будет сопровождать вас до… Ну, сами понимаете. – Узник опустил голову, а надзиратель, машинально бросив взгляд на его затылок с неровно подстриженными темно-русыми волосами, недовольно поморщился. – До чего же скверно вас вчера обкорнали! Ровнее надо было волосы подстричь…
Узника передернуло, он бросил на собеседника взгляд, полный муки.
– Вы не подумайте ничего такого, мсье Мелинер обычно хорошо стрижет, просто вас он до ужаса боялся, – счел нужным объяснить надзиратель. – Он сам мне потом признался…
Узник вспомнил ножницы, которые вчера плясали в руках человека, который его стриг, вспомнил их тявкающий лязг, и ему стало обидно, что он тогда не осуществил мысль, пришедшую ему в голову. «Я мог бы вырвать у него ножницы и воткнуть их себе в горло… Покончить с собой… Но не смог. На что я надеялся? Скоро меня выведут из камеры, проведут через двор… Гильотина, наверное, уже стоит за воротами… Сто шагов отделяют меня от смерти. Может быть, больше… Может быть, меньше, какая разница…»
Надзиратель кашлянул.
– Как насчет последнего желания, Варен? – спросил он все тем же невыносимо фальшивым, преувеличенно бодрым голосом.
Верно, у него есть право на последнее желание. Как он мог забыть?
– Я бы хотел…
Он запнулся. Сто шагов отделяют его от смерти – сто шагов и всего лишь несколько минут. Чего он хочет? Конечно, не умирать; но…
– Желание, разумеется, должно быть в границах разумного, – сказал надзиратель. Он ждал ответа, но осужденный молчал. – Может, вина? Или сигару?
«До чего же убогое у людей воображение… Но в самом деле, чего бы я хотел? Написать письмо… Кому? У меня никого нет. Родных не осталось, друзья – те, кого я считал друзьями, – все отвернулись от меня во время судебного процесса… У меня никого нет».
Так и не услышав ответа, надзиратель повторил свое предложение.
– Я ничего не хочу, – устало промолвил узник. Нечеловеческая опустошенность заполонила его душу, сводя на нет любое усилие, любой проблеск надежды или желания, которые еще могли приковывать его к жизни. – Какое это будет иметь значение там, потом… А впрочем…
Надзиратель терпеливо ждал.
– Скажите, что это за дерево? – спросил осужденный, указывая на окно, за которым виднелись ветви, качающиеся на ветру.
– Это? – изумился надзиратель. – Это вяз.
– Вяз, – вяло повторил осужденный. – А я, представьте, все время смотрел на него и думал, как он называется…
Тут надзиратель не выдержал.