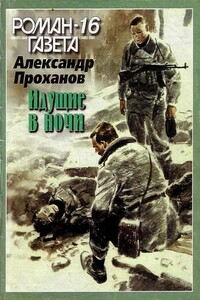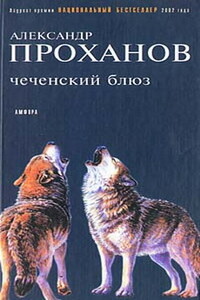Дубовые стены обеденного зала были коричневые, прокалённые, пропитанные табаками курильщиков, запахами кофейных зёрен, дымком жареного мяса, ароматами вкусных вин. Отломи ломтик дубовой доски, кинь в кипяток, и вода станет темнеть, как в чашечке кофе. Пей, смакуя, маленькими глотками, вкушай, дожидаясь, когда появятся галлюцинации. Тебе вдруг явится Максим Горький, похожий на моржа, с вишнёвой трубкой, только что провозгласивший мистическое учение Соцреализма. Исаак Бабель, испивший славу своей слёзной и кровавой “Конармии”. Александр Фадеев вернулся из Кремля и нащупывает среди рукописей холодное тельце пистолета. Константин Симонов, щеголеватый, с обольстительными усиками, льёт вино в бокал очередной красавицы…
Виктор Ильич Куравлёв был автором нескольких книг, снискавших благосклонность критиков. Однако книги не одарили его ослепительным успехом, когда произведение вдруг полыхнёт, опалит хладные умы ценителей, утомлённых воспеванием одних и тех же обветшалых кумиров. Такая книга ворвётся нежданно, словно метеорит. Озарит, обожжёт, прогрохочет, как взрыв. Пошлёт взрывную волну читателям, заждавшимся нового литературного светоча.
Но взрыва всё не было. Была короткая вспышка, не способная затмить царствующие светила. Новая выпущенная Куравлёвым книга обещала долгожданный триумф, дразнила честолюбие сладкими и пугающими ожиданиями.
Куравлёву было под сорок. Большой белый лоб без морщин, словно его не коснулись мучительные раздумья. Длинные каштановые волосы ниспадали почти до плеч, что вынуждало Куравлёва изредка встряхивать головой, отбрасывая назад мешавшую прядь. Серые глаза прищурены, как у стрелка, который высматривает цель. Рот насмешливый, но в улыбке не было злой иронии, а только весёлость человека, которому многое кажется забавным. Он не позволял себе высмеивать чужие недостатки, вслух подмечать слабости литературного письма собратьев по перу.
Книга, на которую он уповал, называлась “Небесные подворотни”. Она была об архитекторе-футурологе, что проектировал города будущего. Космические поселения, подводные лаборатории, летающие небоскрёбы, которые распадались на малые частицы и, как семена одуванчика, неслись по ветру в полярные льды, раскалённые пустыни и там вновь собирались в города. Фантазии архитектора проходили в современной Москве, среди заводских конвейеров, очистных сооружений, мясокомбинатов с окровавленными тушами, среди многолюдных рынков и весёлых аттракционов. Метафора книги сводилась к тому, что мечтатель-одиночка стремится преодолеть гравитацию материального мира и вырваться в чудесные миражи будущего. Он терпит крах, завещая своё дело будущим поколениям. “Я потерпел земное поражение, но одержал победу в небесах”.
Теперь эта книга, только что из типографии, в девственной свежести и красоте, лежала на столе Дубового зала ЦДЛ, где Куравлев с приятелями праздновал её выход.
— Ну, что, Витя, я тебя поздравляю с добротным романом. Полагаю, это твоя лучшая книга. — Писатель Антон Макавин, близкий друг Куравлёва, поднялся, держа в руках рюмку водки. — Этот роман — мечта о будущем. Сегодня литература тоскует о прошлом. “Деревенщики” — плакальщики о былой деревне, где витал настоящий русский дух. “Городская проза” Трифонова не может смириться с разгромом ленинской гвардии, откуда все они родом, и всласть попили русской кровушки. Твой роман, Витя, о будущем, которое так и не наступило. Поздравляю с книгой! — Макавин чокнулся с Куравлёвым, вся застольная братия потянулась следом. Макавин был породистый крепкий уралец, в которого чуть капнула азиатская кровь, подарила ему широкие скулы и узкие степные глаза. Он писал небольшие рассказы и повести о современном человеке, утратившем всякую связь с государством, бегущем от государства, кто в странствия, кто в запой, кто в камерную потаённую любовь. Куравлёв ценил его добротный слог, лишённый образности, где фразы напоминали грубоватые деревянные бруски с запахом распиленного леса.
Уже были съедены мясные и рыбные закуски, картофельные клубни с селедкой, и следовало подавать жюльены. Поднялся с рюмочкой Пётр Лишустин, низкорослый, с синими колкими глазками, с золотистой бородкой, маленький красивый помор, писавший свои романы о староверах и странниках на волшебном языке, на коем, как он утверждал, говорили его предки в рыбачьих артелях, в охотничьих угодьях. Ставили по берегам Мезени громадного роста “обетные” кресты, распевая песни о корабльщиках и синем море.
— Ну, что мне сказать, Витя? Хорошая разноцветная книга. Такие метафоры, упадёшь в одну, как в волчью яму, и барахтаешься, пока кто-нибудь шест не протянет. Конечно, никто из нас так не опишет машину, словно она тварь живая, а не железяка бездушная. Но душу, душу сумей описать! Русская литература душевная, а у тебя вместо души — самолётный пропеллер. Ты, Витюха, не обижайся за мои слова. Книга твоя бесподобная! — Он закрыл синие глазки, опрокинул рюмку, отёр рукавом золотые усы.
— Витенька, не надо метаться, не надо куда-то мчаться. Смотри на мир широко открытыми глазами, и мир сам к тебе придёт. — Писатель Анатолий Апанасьев, похоже, не читал книгу. Но в его милом лице, в круглых птичьих глазах было столько дружелюбия, искренней радости, что Куравлёв прощал Апанасьеву легкомыслие, невесомость суждений, которыми были полны его ироничные рассказы. У этого славного, одарённого человека случались запои, появилась больная склонность играть на автоматах. Он просаживал все гонорары, обрекая на страдания очаровательную жену, принимавшую его дома после попойки и уличной драки.