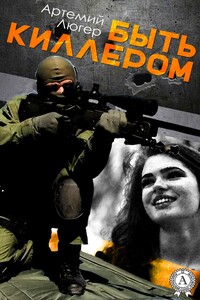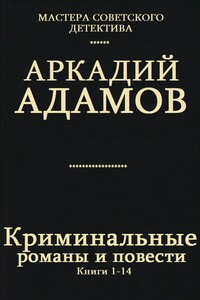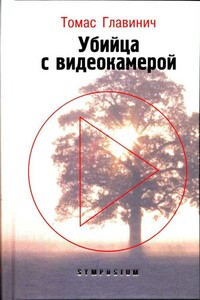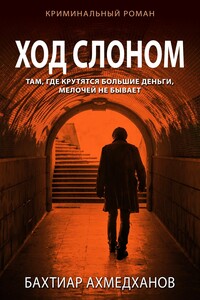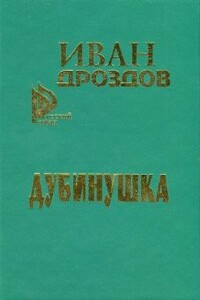Я — киллер. Сегодня даже дети знают это слово, но если бы мне десять лет назад сказали, что я стану киллером, я бы без разговоров набил сказавшему морду. А может быть, и не набил бы. А просто рассмеялся: чушь какая-то и всё. И мои родители — папа, законопослушный советский инженер, и мама — библиотекарь со стажем, тоже, думаю, посмеялись бы, если бы, конечно, поняли, что означает это слово. И Нина Николаевна, мой классный руководитель в старших классах, прореагировала бы точно так же.
Учился я ни шатко, ни валко, но она меня любила. — Ты, — говорила она, — лентяй, каких мало, но душа у тебя хорошая, добрая и справедливая, можно сказать, советская у тебя душа.
Вот в последнем пункте она явно была права: был во мне этот кретинский, как я сейчас понимаю, советский душок. Благодаря ему я и от армии отмазываться не стал, хотя возможность, благодаря одному отцовскому закадычному дружку, была. И в Афган, как только сказали про защиту нашей советской родины от происков империалистов, вызвался одним из первых. Одним из первых и взяли, поскольку в приписных моих документах значилось, что я кандидат в мастера спорта по стрельбе. Надо сказать, что спорт в юности волновал меня мало, но в нашем классе все парни занимались каким-нибудь видом: от лёгкой атлетики и карате до футбола и баскетбола. Бегать за мячом или — как в лёгкой атлетике — просто так я считал занятием глупым, а чтобы тебе с твоего согласия били морду — и вовсе идиотизмом. А вот стоять на месте, а то и удобно лежать на мате, прижимая к себе удобную подружку — винтовку, это меня устраивало. К моему удивлению, стрельба у меня пошла. Без тренировки выбил норматив второго взрослого разряда, а потом за меня взялся тренер Василий Степанович, сибиряк и дуб дубом, но дело своё знавший тонко. Так что под его неусыпным руководством я сделал и первый, и норму кандидата в мастера.
— Точняк, — говорил он, — прямо белке в глаз.
Афган, конечно, разочаровал быстро. Розовая дымка исчезла первой, а для того, что наступило потом, и чёрная краска казалась недостаточно чёрной. С ребятами я сошёлся легко, а вот с командирами, в особенности из вчерашних солдат, оказалось не так просто. Некоторые сразу надувались как пузыри. Заискивали перед офицерами и всячески выделывались, за наш, естественно, счёт. При этом все, кто имел отношение к довольствию, продавали его афганцам, нам оставались крохи. Не брезговали этим и офицеры. Я в первые дни спросил у «деда», почему это рядом с любым жильём обязательно крутятся собаки, а вокруг нашей казармы тишина, никто не тявкает. — Так съели, — сказал он спокойно. Послужишь полгода, и ты, салабон, будешь жрать всё, что бегает и лает.
Очень скоро я понял, что патриотизму здесь не научишься, скорее наоборот. Всё, что писали газеты в Союзе, оказалось сплошным враньём, за Родину тут никто кровь проливать не собирался. Одни служили за звёздочки, другие — за чины, а третьи — и среди них все женщины — за талоны, на которые можно было много чего купить, вырвавшись из этого грёбаного Афгана. Вырвавшись, то есть уехав. Уехав, разумеется, живым, а не в качестве «груза 200», то есть в свинцовом гробу. Какую-то помощь Афганистану мы, конечно, оказывали: страна бедная, жратвы мало, народу много: вот эту проблему мы и решали, по возможности уменьшая число едоков. Уменьшали всякими способами, и гуманных среди них, могу сказать честно, было немного. Так что в бой из наших рвались немногие, разве только те, что на днях прибыли и ещё ничего не успели понять. Единственные операции, на которые все шли с удовольствием, были операции специфического, так сказать, характера. Когда в расположении части появлялась группа незнакомых офицеров, а наши начинали чистить сапоги и передвигаться на цыпочках — мы понимали, что к нам прислали очередного начальственного сынка. Значит, вот-вот будет операция по взятию давно оставленного кишлака, с привлечением немалых войск и десятка «вертушек». После обязательной победы, вышеупомянутый сынок получал на грудь орден, а на погоны звёздочку, а нам подбрасывали по сто грамм… а иногда и не подбрасывали.
Короче говоря, через полгода службы, когда вызывали добровольцев, я делал шаг назад, а если нельзя было отвертеться, стрелял, конечно, из своей снайперской, и стрелял, как правило, метко. Зацепило меня дважды: один раз осколком в мякоть ноги над коленом, а второй — пуля прошла между рёбрами, не причинив особого вреда, скорее некоторую приятность — за те четыре дня, что полежал в санчасти, сумел соблазнить Валечку, симпатичную медсестру, при виде которой слюни текли у всех без исключения офицеров. О солдатах я и не говорю. Так что теперь благодаря моим ранам у меня есть железное право рвать на груди тельник и кричать страшным голосом: «Мы там кровь мешками проливали, а вы тут…» Медаль, которой меня наградили, я не выкинул, а отдал родителям, пусть гордятся, а были у нас и такие, что в Таджикистане сразу меняли на водку, да и ту не всегда давали.
А Витькину, Виктора Белоусова, которому посмертно дали медаль, его земеля Сашка Балабан сначала хотел выкинуть к чёртовой матери, а потом всё-таки положил ему в ящик «груза 200», сказав: