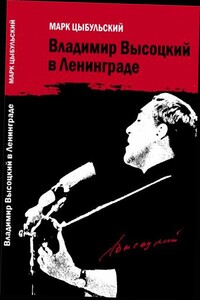Плотник Лактион Никитич вырезывает по доске мелкий орнамент в русском стиле, для арки над крыльцом, и говорит грустно-покорным, вздыхающим голосом:
— Мука сейчас — рупь семь гривен, а была — семьдесят…
— Дойдет до двух рублей, говорят, — замечает медно-красный казак Ефрем Муравин.
— Дойдет! — с горестной уверенностью соглашается Лактион: — дойдет, вещь понятная… Ну как же изворачиваться в этом году нашему брату?
Дюжий Муравин, с пегой, неровно поседевшей бородой, в фуражке с кокардой и красным околышем, промасленным снизу, глядит несколько мгновений на Лактиона соображающим взглядом, точно готовясь дать нужное указание, потом молча берет ведро с водой и начинает пить. Пьет долго, серьезно, громко, и чувствуется, что вопрос о существовании Лактиона при нынешних ценах на муку, вещь вполне второстепенная по сравнению с потребностью удовлетворить жажду в данный момент.
— Душа вспотела, — говорит, тяжело дыша, Муравин, оторвавшись, наконец, от ведра.
Он утерся рукавом старой розовой — на спине черной — рубахи, накрыл ведро отрезком доски и, садясь рядом с Лактионом, успокоительно прибавил:
— У тебя деньги горячие!
— Горячие — они горячо и идут, — возразил Лактион.
Муравин молча протянул широкую, темную, как земля, руку, натруженную, с плохо разгибающимися пальцами. Лактион понял жест, молча снял картуз с своей косматой головы и достал из него кисет с табаком.
— Горячо, брат, текут, — вздохнул он, передавая кисет Муравину.
— Деньга твоя легкая, — продолжал Муравин, развертывая кисет: — день постукал топором, полтора целковых дай сюда!.. Прямо сказать: своя фабрика… Тюк, тюк… вот они и деньги! Пожалуйте!..
— А харчи?
— Чего ж харчи? Харчеваться можно по всякому.
— Как ни вертись, а артель-то вон она — восемь человек. Они за стол сядут; как думаешь — притешат или нет? Пуд муки — на два дня… А ведь у меня все с копейки… не как у тебя…
— А у меня как? — протестует Муравин.
— У тебя что! Все свое. Земля есть, а при земле, вещь понятная, харч свой, не покупной.
— Землю есть не будешь!
— Всяк злак от земли… Чего ты когда купил?
— С голыми руками, брат, к земле не подойдешь, не-ет! Я не покупаю, да… это точно так… А почему, — вот вопрос! Купило притупило? Не на что купить…
Ефрем Муравин раз пять в день приходит к нам на постройку покурить, пока на его гумне ребята гоняют по току лошадей, запряженных в каменный каток-молотилку. Подойдет время стрясать посад, Муравин уходит. Уходит без особой охоты: тошно смотреть на жалкий хлеб, на скудный ворох, в котором тощее, сморщенное зерно тонет в сорной мякине, на низкий приметок новой соломы, в которой кувыркаются через головы сопливые внучата. Нет радости. И работать неохота. Укажет ребятам, для порядка, то, что они и сами знают, поможет насадить новый посад и опять возвращается к нам, у нас табаку вдоволь, вода свежая, больше тени и беседа разнообразнее, чем на гумне с семейными.
Между Лактионом и Муравиным чаще всего возникает пререкание о преимуществах положения ремесленного и земледельческого. Перескакивая с предмета на предмет, этот диспут иногда доходит до высших материй, до вопроса о том, что будет и будет ли что «на том свете», можно ли рассчитывать на справедливое устройство жизни здесь, на земле, где вокруг богатства и довольства, как мелкая зыбь морская, копошится полуголодная и совсем голодная нищета, а в самой нищете раздор да свары, да темная злоба и непонимание: кто посильнее, норовит столкнуть рядом бредущего, вырвать кусок, подслужиться сытому, продать брата родного… Есть ли правда тут, где само небо не знает жалости, порой дышит беспощадным зноем, сухостью, горячим ветром истребляет труды и чаяния темной, копошащейся до изнурения рабочей массы?..
Работа идет и у Муравина, и у нас ни шатко, ни валко. По внешности, как будто обычная суета, деловитость, сосредоточенное напряжение, стук, свист, подгоняющие крики, задумчивая песенка… Радость труда… А все нет настоящего увлечения, не чувствуется захвата и вдохновенного жара, какой бывает, когда работа будит радостную гордость серьезными размерами, дает утешительное сознание особой плодотворности, обильных результатов… Нет упоения, нет восторга трудового…
У Муравина недород. Хлеба зажгло, колос пустой. В каком и есть зерно, — щуплое, тощее, сморщенное, не глядел бы… С таким хлебом спешить некуда, — работа легкая, сама поспеет. И молотить бы незачем, да солому надо перемять, чтобы на корм годилась.
У Лактиона работа тоже мало вдохновительная: забор вокруг палисадника, амбар и кое-какие поправки в доме. Конечно, Лактион создан не для такой работы. Он часто намекает мне, что он не какой-нибудь заурядный плотник, а мастер, артист, в душе которого тлеют великие порывания к красоте. Да я и сам чувствую это, и совесть немножко угрызает меня за то, что артисту я поручил сооружение какого-то ничтожного забора. Но, в сущности, та работа, на которую я поставил Лактиона, мне вовсе не была нужна, — он сам выпросил ее, убедил в ветхости забора, доказал необходимость сделать хоть небольшой амбар, в который мне нечего было сыпать, убедил переменить арку над крыльцом, пришедшую в ветхость. Он пустил в ход все свое красноречие, и я видел, что нужда прижала человека, — неурожай приостановил все постройки в станице.