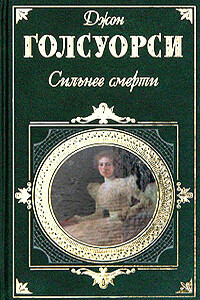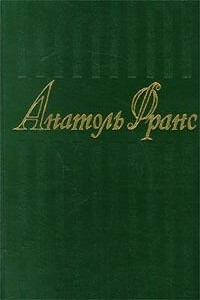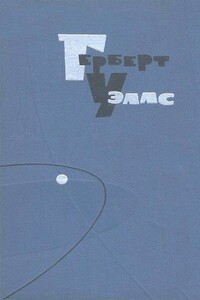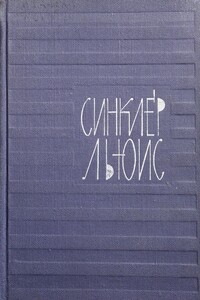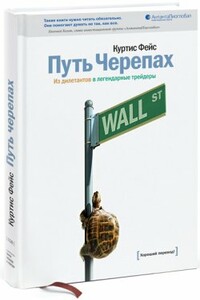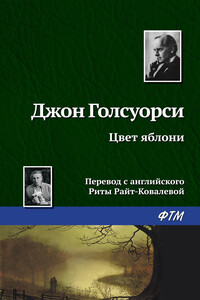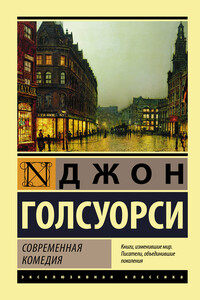Стоял последний день апреля 190... года, над Хайстрит в Кенсингтоне далеко в вышине бурлило море рваных облачков. Воздушные пары, окутавшие почти весь небосвод, мягко клубились, надвигаясь на клочок голубого неба, по форме напоминающий звезду, - он сверкал, как одинокий цветок горечавки в гуще травы. Казалось, у каждого облачка - пара невидимых крыльев, и, как насекомые, летающие по твердо намеченным путям, облака упорно продвигались вперед, окружая цветок-звезду, который сиял ровным, ясным огнем из своего неподвижного далека. Справа они шли курчавыми стадами, тесня друг друга так, что очертания их стирались; слева они были выше, мощнее и, оторвавшись от своих собратьев, как будто вели атаку на уцелевший островок несказанного сверкания. Бесконечно было многообразие бесчисленных летящих облачков, неизменна и неподвижна была одинокая голубая звезда.
Внизу на улице, над которой шла эта вечная борьба мягкокрылых облаков с прозрачным эфиром, мужчины, женщины, дети и ближние их - лошади, собаки и кошки - с особым, весенним подъемом делали каждый свое обычное дело. Они двигались шумным потоком, и от их живой суеты поднимался ввысь неумолчный гул.
Пожалуй, теснее всего толпа была возле магазина Роза и Торна. Мимо нескончаемого ряда его дверей шли люди всех рангов, от высшего до низшего, а перед витриной с готовым платьем стояла довольно высокая, тонкая и стройная дама и думала: "Оно совсем голубое, цвета горечавки. Но, может, мне все же не следует покупать его, когда вокруг такая нужда..."
Глаза ее, зеленовато-серые и часто принимающие скептическое выражение, чтобы не выдать тайных движений души, тщательно перебирали одно за другим качества платья, разложенного в витрине во всей содей соблазнительности.
"А что, если Стивну я в нем не понравлюсь?" Сомнение заставило даму зажать пальцами одетой в перчатку руки складку на груди блузки. И этот нервный жест выразил всю ее душу: желание иметь и страх перед обладанием, жажду жить и страх перед жизнью; вуаль, спускаясь с нешироких полей шляпы, прикрывала чуть расплывчатые черты, слишком высокие скулы и слегка впалые щеки - как видно, время целовало их довольно крепко.
Стоявший на тротуаре старик с длинным лицом, глазами в красных ободках, как у попугая, и носом неестественного цвета заметил даму и вынул изо рта пустую трубку. Ему разрешалось продавать здесь "Вестминстерскую газету" при непременном условии, что он будет делать это только стоя.
Знать всех прохожих - это было частью его профессии, а также служило развлечением, так как помогало ему забывать о больных ногах. Высокая дама, с изящным лицом вызывала в нем недоумение. Она иногда покупала у него газету, продавать которую, вопреки своим политическим убеждениям, он был обречен судьбой. Такая особа, дама из общества, должна была бы, конечно, покупать газеты, выпускаемые тори. Настоящую леди он уж сразу отличит. Дело в том, что прежде чем жизнь вышвырнула его на улицу, наградив болезнью, на лечение которой ушли все его сбережения, он служил старшим лакеем и к людям "благородным" испытывал чувство почтительности, столь же неискоренимое, как и недоверие к тому сорту людей, "которые покупают себе вещи вот в этих вот огромных магазинах" и "устраивают танцульки по подписке - там вон, в этом... мунсипалитете". Он наблюдал за дамой с особым интересом, хотя вовсе не старался привлечь ее внимание, остро сознавая в то же время, что успел продать всего лишь пять газет утреннего выпуска. Он удивился и расстроился, когда дама вдруг скрылась, войдя в одну из многочисленных дверей магазина.
Соображения, побудившие даму войти в магазин Роза и Торна, были следующие: "Мне тридцать восемь, у меня семнадцатилетняя дочь. Я не должна терять привлекательности в глазах моего мужа, этого допускать нельзя. Подошло время, когда необходимо особенно тщательно заниматься своей внешностью".
Перед длинным трюмо, в сверкающей глубине которого ежегодно купались сотни полуобнаженных тел и на гладкой поверхности которого ежедневно отражался десяток душ, совершенно обнаженных, глаза дамы приобрели холодный блеск стали. Но когда выяснилось, что платье цвета горечавки придется сузить в груди на два дюйма, в талии на дюйм и в бедрах на три, а подол на дюйм отпустить, они снова затуманились сомнением, как если бы обладательница их уже готовя была отказаться от принятого решения. Вновь надевая блузку, она спросила:
- Когда я смогу его получить?
- В конце недели, мадам.
- Не раньше?
- Как раз сейчас у нас много спешной работы, мадам.
- Пожалуйста, постарайтесь непременно переделать его не позднее четверга.
Продавщица, примерявшая платье, вздохнула:
- Хорошо, я постараюсь.
- Я рассчитываю на вас. Мой адрес: Олд-сквер, дом семьдесят шесть. Миссис Стивн Даллисон.
Спускаясь по лестнице, она подумала: "У бедняжки такой усталый вид. Просто позор, что их заставляют работать по стольку часов", - и вышла на улицу.
Позади нее послышался робкий голос:
- "Вест-министерскую", мадам?
"Это тот бедняга старик с таким безобразным носом, - вспомнила Сесилия Даллисон. - Право, мне совершенно незачем..." - И она стала рыться в сумочке, ища мелкую монету. Рядом с "беднягой стариком" стояла женщина в опрятном черном платье и небольшой, очень поношенной шляпке, когда-то, очевидно, украшавшей более изящную голову; ее шею обвивала узкая, вся вытершаяся меховая горжетка. Несколько изможденное лицо женщины было не лишено тонкости, карие глаза смотрели ясно и кротко, гладкие черные волосы были стянуты в пучок. Рядом с ней стоял худенький мальчуган, на руках она держала младенца. Миссис Даллисон протянула два пенса за газету, глядя, однако, не на старика, а на женщину.