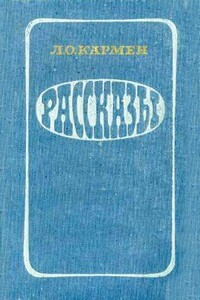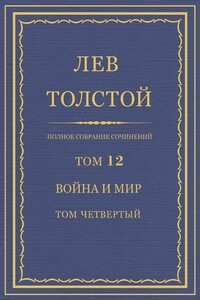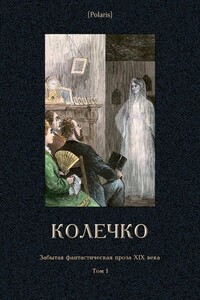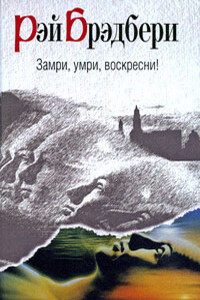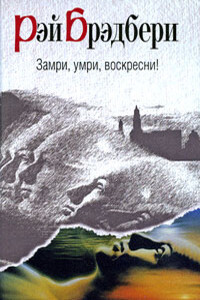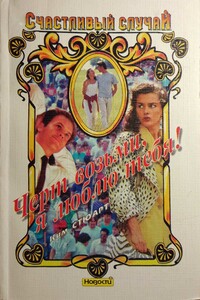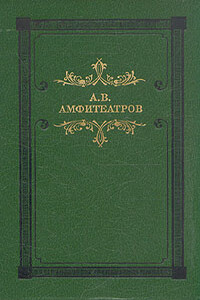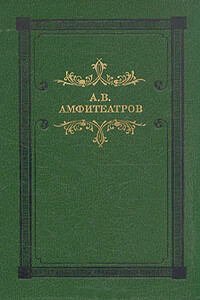Я подходилъ къ Новому Іерусалиму [1]. Путь — однообразный, пыльный проселокъ, брошенный, вмѣстѣ съ полдюжиной тихихъ деревушекъ, мелководною рѣченкой и нѣсколькими лѣсистыми болотцами, на скучной равнинѣ между Крюковымъ и Воскресенскимъ — давно надоѣлъ глазамъ и утомилъ ноги; ремни дорожнаго мѣшка рѣзали плечи. Хотѣлось одного: поскорѣе очутиться за лѣсистою линіей горизонта, откуда такъ заманчиво льется глухой, таинственный вечерній звонъ уже недалекой, но еще невидимой обители.
За селомъ Дарна, съ высокаго берега низкой рѣченки, путникъ впервые видитъ на темнозеленомъ фонѣ широко разбѣжавшагося вправо и влѣво лѣсного моря золотую звѣздочку — вершину креста на новоіерусалимскомъ соборѣ. Отсюда до монастыря рукой подать. Построенный на возвышенности, онъ съ каждымъ вашимъ шагомъ точно плыветъ вамъ на встрѣчу, какъ исполинская нарядная яхта.
На завтра было Вознесенье. Въ воскресенской жизни этотъ праздникъ отмѣченъ двойнымъ торжествомъ — крестнымъ ходомъ и двухдневною ярмаркой. Въ посадѣ набрались поэтому не малыя тысячи народа, и я съ трудомъ нашелъ себѣ комнату для ночлега.
Было что поглядѣть и послушать въ живыхъ, весело настроенныхъ толпахъ, скопившихся у святыхъ воротъ монастыря. По пути въ Воскресенскъ я удивлялся безлюдью селъ, какія случилось мнѣ проходить; идешь по иному, — ни души; только собаки бродятъ по тихимъ улицамъ, да и то такія смирныя, молчаливыя, словно отъ роду и не знали, что такое — лай. Оказывается, народъ-то — вонъ онъ гдѣ!..
Подъ святыми воротами шла бойкая торговля образками, житіями святыхъ, брошюрками съ описаніемъ монастыря, акаѳистами. Бабы сплошной стѣной окружали прилавокъ, почти вырывая священный товаръ изъ рукъ продавцовъ-монаховъ. Одинъ изъ нихъ, пожилой, съ умнымъ насмѣшливымъ лицомъ, пытался дѣйствовать на своихъ ретивыхъ покупательницъ честью, — увѣщаніями, укоризненными взглядами; другой — молодой послушникъ, взволнованный, раскраснѣвшійся, — «лаялся», очевидно, глубоко и искренно ненавидя въ эту минуту безобразную, насѣдающую со всѣхъ сторонъ, бабью орду. Изъ-подъ пролета воротъ флегматически любовался этой свалкой іеромонахъ, раздаватель святой воды, большой красивый мужчина въ ризахъ: его тоже осаждали, но онъ какъ-то сумѣлъ водворить порядокъ между своей паствою; толпа проходила мимо него строгою очередью, словно въ турникетѣ, и рука іеромонаха, вооруженная кропиломъ, поднималась и опускалась съ машинальною мѣрностью.
Мужчины подъ святыя ворота не лѣзли. Стоя и сидя поодаль, они смотрѣли на пеструю толчею желтыхъ, красныхъ, синихъ платочковъ, слушали бабій визгъ и руготню, смѣялись и крѣпко острили. Ругани висѣло въ воздухѣ болѣе, чѣмъ достаточно, но, если вырывалось на свѣтъ бѣлый изъ чьего-нибудь широко распущеннаго горла ужъ чрезмѣрно крѣпкое словцо, мужики его немедленно закрещивали; въ этомъ выражалось уваженіе къ кануну праздника: на завтра, послѣ обѣденъ, ругались уже безъ крестовъ. Кучки деревенской молодежи разсыпались по монастырской рощѣ; должно быть имъ было весело: берега мѣстнаго Іордана — рѣки Истры гремѣли смѣхомъ, шутками, бойкими окриками; иной разъ зачиналась пѣсня, но тотчасъ-же и обрывалась: надо полагать, пѣвуны вспоминали про канунъ.
Когда стемнѣло, народъ, переполнивъ и «странную», и гостиницы, и всѣ ближайшіе къ обители частные дома, во множествѣ остался еще безпріютнымъ. Лощина между городомъ и монастыремъ усѣялась спящими. Въ рощѣ стало еще звончѣе и веселѣй. Народъ гулялъ, какъ умѣлъ, справляя рѣдкій день отдыха грубо и не слишкомъ чистоплотно, можетъ быть, но за то съ полнымъ чистосердечіемъ и увлеченіемъ. Пьяныхъ вовсе не было.
Я почти всю ночь пробродилъ по окрестностямъ Новаго Іерусалима и пришелъ къ ранней обѣднѣ усталый, съ тяжелою головой. Запахи ладона, кумача, пота, масляныхъ головъ, переливавшіеся подъ громаднымъ голубымъ шатромъ биткомъ набитаго народомъ храма, совсѣмъ меня одурманили, и я поспѣшилъ выбраться на монастырское кладбище, не слишкомъ обширное и бѣдное памятниками. Подивившись чугунной плитѣ надъ прахомъ нѣкоего гвардіи вахмистра Карпова, — этому воину, въ моментъ его кончины, было, по эпитафіи, всего семъ лѣтъ отъ рожденія, — я ушелъ въ самую глубь кладбища, гдѣ, подъ сиренями, у старой могилы, покрытой двойной плитой, нашелъ себѣ неожиданно компаньона и собесѣдника. Это былъ старый, степенный мѣщанинъ изъ Москвы. По кладбищу онъ бродилъ съ практической, но довольно невеселою цѣлью: возмечтавъ со временемъ упокоить въ Новомъ Іерусалимѣ свои грѣшныя кости, онъ присматривалъ на этотъ случай мѣстечко…
— Вотъ этакъ хорошо похорониться, — указалъ онъ мнѣ, между разговоромъ, — знатная плита, купецкая.
— Но, вѣдь подъ нею двѣ могилы, — замѣтилъ я.
— Мы тоже на два мѣстечка мѣтимъ: себѣ и супругѣ; помру я, — Анна Порфирьевна меня похоронить; помретъ она, — я ее; а потомъ наслѣдники пускай накроютъ насъ такой плитой; мы съ супругой сорокъ годовъ жили — не ссорились, такъ, значитъ, и на томъ свѣтѣ, чтобы неподалечку другъ отъ друга.
Я одобрилъ затѣю старика.
— Это кого-же такихъ похоронили здѣсь? — говорилъ онъ, щуря старые глаза на плиту, — безъ очковъ-то я не очень…