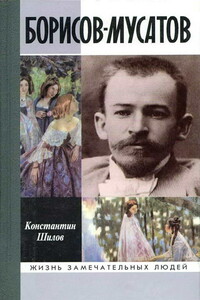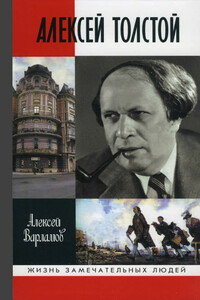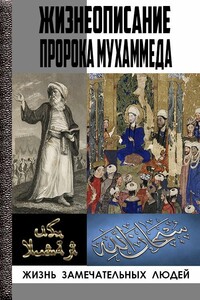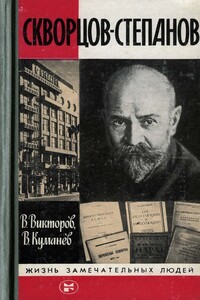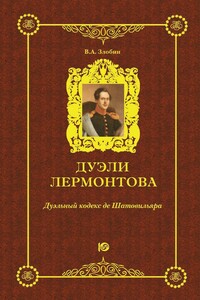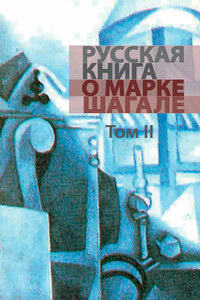>Издание второе,
>исправленное и дополненное
>На переплете:
>фрагменты картин Борисова-Мусатова
>«Изумрудное ожерелье», «Водоем».
>На авантитуле и в тексте использованы:
>рисунок Борисова-Мусатова «Художница»
>(портрет Е. В. Александровой)
>и виньетки из графического оформления
>журнала «Весы» (№ 2, 1905),
>выполненного Борисовым-Мусатовым.
Светлой памяти Марианны Викторовны Мусатовой, моего друга, дочери Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова и Елены Владимировны Александровой
От автора
Чем более приближались мы к новому рубежу веков, тем больше рос интерес к Мусатову. Но так было не всегда. В восприятии личности художника и его творческого мира были в ушедшем веке как бы три волны «мифологизации».
Первый, искренний и романтический миф он творил о себе сам, особенно в послепарижские годы исканий (1898–1901) — в своих письмах и дневниковых записях. И так уж вышло, что именно этот, в значительной мере им самим литературно «сконструированный» образ, позже утвердил однобокое представление о нем как о грустном отшельнике, «одиноком художнике».
Полусказочный образ больного «маленького человечка», над которым все смеялись, не зная, что за его спиной «сложены могучие крылья», которые он вдруг расправил «и улетел в лазурь», — встретит нас и в первой книге о Мусатове, написанной его другом и первым биографом В. К. Станюковичем (1906), и особенно — в совершенно искаженно трактующей облик художника книге лично его не знавшего Н. Н. Врангеля (1910).
В 1910-е годы укрепился миф о Мусатове — «избраннике небес», создателе живописных грез, мистически уходящем в «лирический сумрак прошлого», оторванном от реальной, натурной основы вдохновения. Появление живописных подделок «под Мусатова», ставшего модным, сопровождалось невольным искажением его подлинного земного облика. Интересное биографическое исследование Я. Тугендхольда (первые главы напечатал журнал «Аполлон» в 1915 году) осталось незавершенным. Переработанная в 1920-е годы В. Станюковичем рукопись его старой книги — неизданной.
Положение несколько выправляла маленькая книжечка писателя, друга С. Есенина, Ивана Евдокимова (1924). Но затем последовал «провал»… в сорок лет. В годы умолчания творился самый несправедливый и «черный» миф о светлом художнике-поэте: «Представитель упадочного буржуазного искусства… Воспевает жизнь старинных дворянских усадеб… Творчество проникнуто мотивами… одиночества и смерти… Краски картин выявляют призрачный характер его образов» (БСЭ, 1950). «Забывалась, — скажет поздний исследователь о Мусатове, — его горячая и искренняя любовь к русской природе. Забывалось его восхищение юностью, здоровьем, красотой человека. Забывалась гуманистическая основа его мечты о прекрасном гармоничном мире».
Сама мусатовская могила сохранилась пожалуй что чудом — благодаря необычному надгробию и ходившим над ним в народе сочувственным слухам и толкам. Была тут и заслуга писателя Константина Паустовского, автора рассказа «Уснувший мальчик», во второй половине 50-х годов написавшего прямо: «Пора восстановить справедливость по отношению… к таким художникам, как Борисов-Мусатов». В 1961 году в альманахе «Тарусские страницы» появилась публикация М. Тихомировой «Новые материалы о жизни и творчестве В. Е. Борисова-Мусатова».
Окончательно все поставила на свои места только вышедшая в 1966 году монография А. А. Русаковой с ее ясной и стройной концепцией творчества художника. Вскоре мы стали свидетелями «второго рождения» Мусатова. В ряде специальных работ и в популярных статьях все более выявляется истинный масштаб художника. Все чаще пишут о том, что Борисов-Мусатов «занимает совершенно особое место в русском искусстве», звучат слова: «парадокс Мусатова», «феномен Мусатова»… Мусатовская живописная система подробно изучена в большом труде О. Я. Кочик. Одно из самых значительных исследований, хотя оно посвящено, казалось бы, специальной и локальной теме, принадлежит Д. В. Сарабьянову и завершается таким выводом: «В каких-то явлениях русского искусства многое таится… Мусатов является как раз такой фигурой, — в нем многое заложено, из него идут пути в будущее… Иванов, Суриков, Мусатов — в этом отношении сходные фигуры… Через мусатовский этап прошли многие: голуборозовцы — Кузнецов, Уткин, Сапунов; Петров-Водкин, воспринявший мусатовский символизм и переосмысливший его; Ларионов и Гончарова, у каждого из которых был целый мусатовский этап; Кончаловский и Фальк, которые до „Бубнового валета“ испробовали — и не без пользы для будущего — мусатовский импрессионизм, и еще многие другие. Эта роль Мусатова в истории русской живописи говорит сама за себя».
Но явление Мусатова — не только эстетическое, историко-культурное. Опыт его судьбы и секреты «самопостроения» его личности таили в себе важнейшие этические уроки для будущего. И это выявилось именно в наши дни. Среди таких уроков «мусатовского мира» — уроки благодарной памяти о прошлом; одухотворяющей связи времен; постоянного поиска гармонии человека и природы, «камертона» этой гармонии, каким была для Мусатова женская душа; духовного здоровья — вопреки всему. И не только это. Друг художника В. Станюкович заметил, что национальное мирочувствие Мусатова было связано с использованием не только «внешних достижений» и не только «западных»: «Мусатов прочно держался за ту „веревочку“, на которой нанизано искусство всех времен и наций». К ним он и присоединил «свою одинокую, восточную, подернутую дымкой печали русскую песнь…»