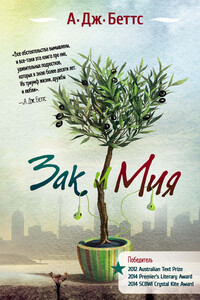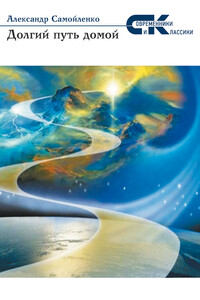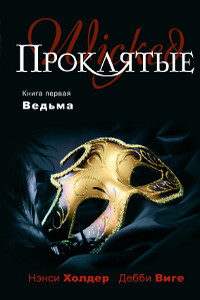— А знаешь, — сказала Оська, заговорщицки округлив глаза, как это умеют делать только девчонки. — так безумно хочется, чтоб ко мне в окно постучался однажды большой розовый зверь. Правда, было бы здорово?
— Правда, — покровительственно усмехнувшись, согласилась я, живо представив в воображении мультяшного розового слона с длинным хоботом.
Мы находились в полутёмной комнате, плотно прикрытой от яркого дня тяжёлыми гардинами, два матовых плафона в бронзовой люстре тускло светили высоко под потолком, но внизу было сумрачно, тени выползали из углов, скрадывая свет. Оська лежала на огромной, ещё дореволюционной кровати с какими-то вычурными загогулинами на спинках. Вся мебель в комнате была громоздкой и древней. Совсем не подходила для худенькой девочки четырнадцати лет. Оськины тонкие, почти прозрачные руки лежали на белом пододеяльнике и не шевелились. Эти руки были мёртвыми. Мёртвыми были и ноги Оськи, и тело, и её исхудавшая, прямо-таки цыплячья шея, которая уже несколько месяцев не могла без бандажа держать голову. Только лицо, глаза оставались живыми.
После этого случая мы несколько раз вспоминали большого розового зверя, придумывали про него истории. А потом Оська умерла.
Она умерла, а мне предстояло жить дальше. Промаявшись весну и лето, осенью я написала в память об Оське рассказ — о том, как целый год умирала девочка, мечтая о большом розовом звере, который однажды постучится ей в окно. Рассказ я отнесла в литературный клуб «Дерзание», где тогда занималась, и наш учитель прозы Рудик (ох, не любил он, когда его называли учителем, но как ещё обозначить профессию человека, который научил меня в литературе всему, что я умею?) разнёс его в пух и прах. Места от моего опуса живого не оставил. Он сказал, что рассказ надуманный, сентиментальный, и в реальности такого не бывает. Недобропорядочно со стороны автора пытаться взять читателя на жалость слащавыми розовыми благоглупостями. Рудику было видней. Когда он писал «Детскую хирургию», то устроился санитаром в детскую больницу. Он видел много страдания и много боли. И он не хотел, чтобы об этом страдании и боли бесстыже врали. Только Оська умирала не в больнице, а дома. И она, действительно, хотела, чтобы к ней в окно постучался большой розовый зверь. Но Рудик об Оське не знал. А ребята знали. Я рассказала год назад о её болезни Кате Геллер, и Катя тогда сказала нашим: «Полундра!», — и все искали связи, чтобы достать редкое японское лекарство — гаммалон. Так что они в курсе были, но деликатно молчали, пока длился этот двухчасовой разнос и разбор рассказа по косточкам. Меня, разумеется, обжигало стыдом и несправедливостью обвинений.
Но, конечно, Рудик был прав. Рассказ был дурацким и сопливым. В нём не было ничего стоящего. Розовые благоглупости в жизни порой случаются, но записанные на бумагу они выглядят беспомощно и отвратительно. Оська не заслуживала такого рассказа. Легко придумывать персонажей из головы. Но писать о настоящих людях я не умела. Да и сейчас не умею.
Я мысленно много раз возвращалась к этой истории, пытаясь понять, что же значил для Оськи этот нелепый, надуманный, совершенно не подходящий для больной девочки розовый зверь. Ну, как он мог постучать ей в окно, если её семья жила на четвёртом этаже, под самой крышей? Чего она в самом деле хотела, а я не смогла ей дать? Спустя много лет вдруг подумалось, что, может, её порадовала бы большая меховая игрушка, спущенная к окну с чердака? Нет, едва ли. Когда раз она попросила чёрного котёнка, и ей принесли целую гору игрушечных котят — собирали всей школой — она очень расстроилась. Зато обрадовалась, когда принесли живой чёрный мохнатый комочек без единого белого пятнышка. Чего же, чего она хотела? Ведь ей было не пять, не шесть, а целых четырнадцать лет, и она была умной, начитанной и в некотором роде самой взрослой, мудрой, зрелой из всех своих одноклассников. А может быть, и во всей школе. Я понятия не имею.
Будет честно признать, что я ничего в ту пору не понимала в девочке, которую считала своей лучшей (да что там лучшей — единственной и первой) подругой. Прошло не меньше двадцати лет прежде, чем я засомневалась, вправе ли вообще считать, что мы были когда-то друзьями.
Незадолго до того, как случилась её неожиданная и непонятная болезнь, которую так и не сумели толком диагностировать, между нами случилась серьёзная размолвка. Оська упрекнула меня в том, что я много говорю и мало делаю (этот грех и сейчас за мной водится), и прямо дала понять, что с болтунами ей водиться неинтересно. У неё оставались две подруги, с которыми она и предпочла водиться. Чем-то они привлекали её, хотя книг почти не читали, учились посредственно и даже, скорее, плохо, чем хорошо. Ещё её преследовали двое мальчишек: Герка Густышкин и Саша Радкевич. На переменах они дразнили Оську, дёргали за косички, а когда она, сердито шипя и сворачивая пальцы в коготки, поворачивалась к ним, убегали, потому что Оська, защищаясь, всегда отчаянно царапалась, за что и получила в классе второе своё прозвище — Котофеич. Сейчас, набравшись опыта, я бы скорей всего предположила, что она нравилась обоим пацанам: и Гере Густышкину, и Саше Радкевичу. Но они доводили её до отчаяния и тихих слёз, и она скрывалась от них в дальнем углу библиотеки, где любила сидеть на корточках и читать книги, а мальчишкам туда как шалопаям и бедокурам доступ был запрещён. Как-то, не выдержав её горьких слёз, я даже стала учить её драться, уговаривая хорошенько ударить меня — но поднять руку на человека было выше её сил, а царапать меня было вроде как не за что. Несколько раз она тихо и почти неощутимо стукнула по моему плечу, но дальше дело не пошло. Уроки самозащиты на этом закончились.