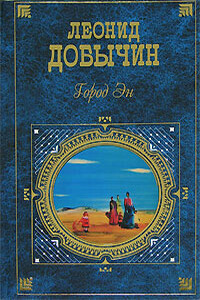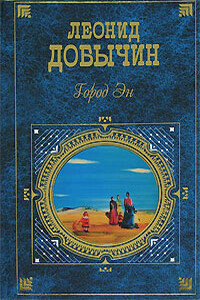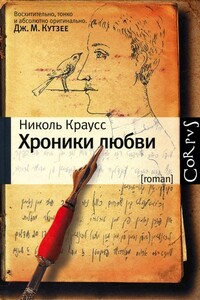Говорите с ним, говорите.
Ваша честь, зимой 1972 года мы расстались с Р., точнее, он меня бросил, приведя разные туманные доводы, но в сухом остатке причина такая: у него есть тайное «я», трусливое и презренное, недостойное находиться рядом со мной, поэтому он должен уйти, уединиться, как больной зверь, чтобы излечить это самое «я» и привести его к некоему стандарту, который позволит ему общаться с людьми. Я заспорила: мы вместе почти два года, его тайны — мои тайны, и если бы в нем действительно таилось что-то жестокое или трусливое, уж кто-кто, а я наверняка бы об этом знала. Но уговоры оказались тщетны, он съехал. А через три недели я получила открытку без обратного адреса, где говорилось, что «наше» решение — да-да, он назвал его «нашим», — как бы тяжело оно нам ни далось, единственно верное и я должна сознаться себе самой, что наши отношения закончены навсегда.
В конце концов я, конечно, пришла в себя, но поначалу было очень худо. Вдаваться в подробности не стану, скажу только, что из дому не выходила, даже бабушку не навещала, и к себе тоже никого не пускала. Единственным обстоятельством, которое хоть как-то удержало меня на плаву, оказалась, как ни странно, погода. Ветер бил в окна, принуждая меня носиться по квартире с небольшим гаечным ключом — специальным медным ключиком для затягивания болтов на старинных оконных рамах, потому что в ветреную погоду болты расшатывались и окна начинали выть, точно волки. Окон было шесть: едва затянешь болты на одном, подает голос другое. Просидеть в тишине на последнем оставшемся в квартире стуле мне удавалось не больше получаса. Казалось, вся моя жизнь теперь состоит из бесконечного дождя и затягивания оконных болтов. Когда погода, наконец, наладилась, я вышла погулять. От безмятежного, недвижного зеркала затопившей весь мир воды веяло покоем. Я шла и шла, очень долго, часов шесть или семь, через незнакомые места, где никогда прежде не бывала и куда с тех пор не наведывалась. Домой вернулась без сил, но чувствовала, что очистилась от какой-то скверны.
Она смыла с моих рук кровь, дала мне свежую футболку, наверно, свою собственную. Думает, я ваша подруга или даже жена. Никто из ваших близких еще не пришел. Я побуду с вами, я не уйду. Говорите с ним, говорите.
Потом Р. прислал за своим роялем, и его вытащили, как когда-то втащили, через огромное окно в гостиной. Пока рояль, последняя из вещей Р., оставался в квартире, его хозяин там тоже незримо присутствовал. Проходя мимо рояля в эти одинокие недели без Р., я поглаживала крышку — прямо как самого Р. в прежние времена.
Несколько дней спустя позвонил мой старинный друг, Пол Алперс. Позвонил, чтобы рассказать свой сон. В этом сне он и великий поэт Сезар Вальехо приехали в загородный дом, который принадлежал семье Вальехо, когда Сезар был маленьким. Дом стоял пустой, все стены выкрашены в синевато-белый цвет. В целом все выглядело очень мирно, и Пол во сне позавидовал Вальехо: он может работать в таком чудесном месте. Пол сказал Вальехо, что этот дом — словно преддверие загробной жизни, но поэт не расслышал, и Полу пришлось повторить это дважды. Наконец Вальехо, который в действительности умер сорока шести лет, нищим, в ливень — все как он предсказывал, — понял мысль Пола и кивнул. Прежде чем они вошли в дом, Вальехо поведал Полу историю о своем дядюшке, который имел обыкновение окунать пальцы в грязь и потом этой грязью ставить отметину у него на лбу — что-то связанное с Пепельной средой, началом поста. А затем дядя делал что-то вовсе непонятное — объяснить трудно, легче показать. И поэт, окунув два пальца в грязь, нарисовал Полу усы. Оба рассмеялись. Пол сказал, что самым поразительным в этом сне было полное взаимопонимание, словно они с Вальехо знали друг друга много лет.
Естественно, проснувшись, Пол решил срочно рассказать этот сон мне, ведь мы с ним познакомились еще на втором курсе — на семинаре, посвященном поэтам-авангардистам! — и подружились, потому что всегда сходились во мнениях, в то время как все остальные с нами не соглашались. Размежевание становилось все резче, мы дружили против всех, и со временем между Полом и мною установилась такая тесная внутренняя связь, что и пять лет спустя мы понимали друг друга с полуслова. Такая дружба вроде сдутого надувного матраса — в любой момент можно раскатать и снова надуть. Он спросил, как я поживаю, не просто из вежливости, конечно: ему доложили о моем разрыве с Р. Я ответила, что все неплохо, но у меня клочьями лезут волосы и, похоже, я скоро останусь лысой. Еще я рассказала Полу, что из дома вместе с роялем ушли диван, стулья, кровать и даже столовые приборы, поскольку до встречи с Р. все мои пожитки умещались в одном чемодане, тогда как Р. сидел, словно Будда, среди мебели, которую унаследовал от матери. Пол на это сказал, что знает одного человека, поэта, друга его друга, который скоро возвращается в Чили и, возможно, захочет временно пристроить свою мебель. Он кому-то позвонил, и этот кто-то подтвердил, что у поэта Даниэля Барски действительно есть мебель, с которой он не знает как поступить, но не хочет продавать — вдруг он передумает оставаться в Чили и вернется в Нью-Йорк? Пол дал мне номер Даниэля и сказал, что тот будет ждать моего звонка. Но я все откладывала, не звонила, главным образом потому, что мне было как-то неловко — пусть даже по предварительной договоренности — просить незнакомого человека отдать мне мебель, а еще потому что за месяц, который я прожила без Р. и его многочисленных вещей, я привыкла ничего не иметь. Проблемы возникали только с гостями, ваша честь: в их глазах ясно читалось, что условия моей жизни жалкие, самые что ни на есть жалкие.