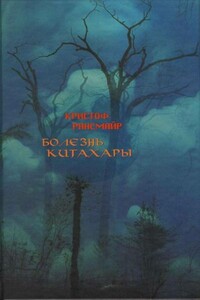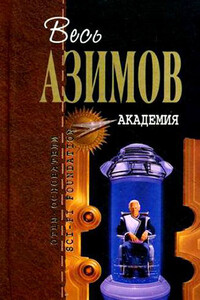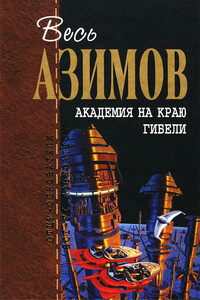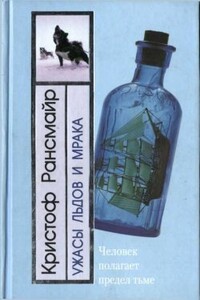Черные, лежали среди бразильского января двое мертвецов. Пожар, что уже много дней бушевал в дебрях острова, оставляя за собой полосы гари, высвободил трупы из путаницы цветущих лиан и заодно испепелил одежду на их ранах, а были это двое мужчин. Они лежали под сенью каменного карниза, на расстоянии нескольких метров друг от друга, меж стеблей папоротника, в нечеловечески вывернутых позах. Красная веревка, которая связывала одного с другим, спеклась от жара.
Огонь опалил мертвецов, выжег глаза, стер черты, потом, фыркая и треща, ушел прочь, но воротился, влекомый тягой собственного жара, и плясал на рассыпающемся прахе, пока ливень не вогнал пламя в чугунно-серую золу рухнувших каресмейровых деревьев и еще дальше – в нутряную сырость стволов. Там пожар угас.
Так и случилось, что третий покойник в пепел не обратился. Вдали от останков мужчин, под пологом воздушных корней и колышущихся побегов, лежала женщина. Худенькое ее тело, пропитание красивых здешних птиц, было сплошь исклевано и изъедено – целый лабиринт ходов прогрызли в нем жуки, личинки, мухи; они ползали по этой обильной пище, вились вокруг, отпихивали друг друга – шуба из шелковисто поблескивающих крылышек и панцирей; праздничный пир.
Пилот топографической службы, который на своем самолете с ревом кружил в ту пору над бухтой Сан-Маркус и, уходя от надвигающегося грозового фронта, вновь и вновь поворачивал к мысу Кабу-ду-Бон-Жезус, – этот пилот обратил внимание, что на скалистом острове, расположенном милях в десяти от Атлантического побережья, беспорядочно змеятся полосы гари, дымная сумасшедшая дорога сквозь джунгли. Топограф дважды прошел над пожарищем и закончил свое радиодонесение, полное треска атмосферных шумов, тем словом, что стояло на его карте под названием острова: Deserto. Необитаем.
Дитя войны, Беринг знал только мирное время. Всякий разговор о часе его рождения был напоминанием о том, что первый крик он издал ночью, дождливой апрельской ночью, когда Моор единственный раз подвергся бомбардировке. Случилось это незадолго до подписания перемирия, которое после войны на школьных уроках истории называли не иначе как Ораниенбургским миром.
Эскадра бомбардировщиков, отходившая к побережью Адриатики, сбросила тогда во тьму над Моорским озером остатки своего бомбового груза. Мать Беринга, беременная, с отечными ногами, как раз несла от подпольного мясника мешок конины. Обеими руками она прижимала к себе тяжелое, мягкое, едва-едва обескровленное мясо и невольно думала о мужнином животе – и тут у самого озера взметнулся над прибрежными платанами исполинский огненный кулак, потом еще и еще… Она бросила мешок на дорогу и, не помня себя, побежала в сторону пылающей деревни.
Адское пекло пожара – ничего подобного ему по силе она в жизни не видала – уже опалило ей брови и волосы, когда чьи-то руки вдруг схватили ее, втащили в черноту какого-то дома и дальше, в глубины подвала. Там она разрыдалась и плакала до тех пор, пока судорогой не свело горло.
Среди заплесневелых бочонков, на несколько недель раньше срока, и явился в мир ее второй сын, а мир этот словно откатился вспять, в эпоху вулканов: под багровым ночным небом земля вспыхивала дрожащими отблесками огня. Днем фосфорные облака омрачали солнце, и в каменных пустынях пещерные жители охотились на голубей, ящериц и крыс. Шел пепловый дождь. А отец Беринга, моорский кузнец, был далеко.
Спустя годы этот отец, глухой к кошмарам ночи рождения сына, будет пугать семью, расписывая страдания, каких натерпелся в войну он, он сам. И у Беринга всякий раз – и сотый, и тысячный – пересыхало горло и саднило глаза, когда он слышал, что на фронте отец, истерзанный жаждой, на двенадцатый день боев напился собственной крови. Было это в Ливийской пустыне. У перевала Хальфайях. Ударная волна бронебойного снаряда швырнула отца на каменную осыпь. И когда в этом пекле, в этой пустыне по лицу вдруг побежала красная, на удивление прохладная струйка, отец по-обезьяньи выдвинул вперед нижнюю челюсть, сложил губы ковшиком и начал втягивать в себя жидкость, сперва оторопело, с отвращением, потом все более жадно: ведь в этом источнике было его спасение. Из пустыни он вернулся с широким шрамом на лбу.
Мать Беринга много молилась. Год от году война с ее погибшими уходила все глубже в землю и, наконец, исчезла под свекловичными полями и люпинами, а она по-прежнему слышала в летних грозах раскаты артиллерийской канонады. И ночами ей, как тогда, бывало, являлась Богородица и шептала на ухо прорицания и вести из рая. Когда священный образ угасал, и Берингова мать подходила к окну остудить лихорадочный трепет, она видела мрачный берег озера и черные волны невозделанных холмов, катящиеся к еще более черным горным кряжам.
Обоих Беринговых братьев семья потеряла; младший погиб, утонул в Моорском озере, ныряя в ледяную воду одной из бухт за клыками – так назывались затопленные, обросшие красными водорослями и пресноводными ракушками боеприпасы разбитой армии, медные пули, которые он камнями отколачивал от патронных гильз, просверливал и носил, точно клыки хищника, на шнурке вокруг шеи. А старший брат эмигрировал в Америку и сгинул где-то в лесах штата Нью-Йорк. Последней весточкой от него, полученной много лет назад, была открытка с видом Гудзона, чьи серые воды неизменно воскрешали и печаль по утонувшему.